|
Какой рейтинг вас больше интересует?
|
Главная /
Каталог блоговCтраница блогера zd1/Записи в блоге |
|
zd1
Голосов: 2 Адрес блога: http://dot-com-zoo.blogspot.com/ Добавлен: 2012-09-26 15:49:29 блограйдером 1234zz |
|
Пять правил поведения в незнакомой компании
2014-07-26 10:45:00 (читать в оригинале)Омолаживающая гимнастика для лица за 6 секунд
Самые вредные привычки «трудоголиков»
Отношения с собой
Гарциния камбоджская - снизит массу тела
Понять психологию и природу человека
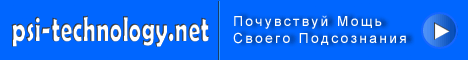
Возникает вопрос: «Как не выпасть из компании и не испортить вечер себе и другим?»
Ответить на него помогают психологи, составившие пять основных правил для тех, кто хочет показаться «своим» в любой компании.
Правило 1. Смейтесь над их шутками.
Всем известно, что людям нравится, когда о них говорят. Однако еще больше удовольствия они получают от того, что аудитория восхищается ими, а точнее их остроумием. Если кто–то в незнакомой компании пошутил или попытался пошутить, то вами это не должно остаться незамеченным — пошутивший должен увидеть, что вы оценили его шутку.
Правило 2. Не задавайте личных вопросов, на которые вы бы сами не захотели отвечать.
Если вы понимаете, что для того, чтобы ваша беседа не угасла, вы должны что–то спросить, то задайте открытый общий вопрос на отвлеченную тему и дайте своему собеседнику говорить столько, сколько он пожелает. Не перебивайте его. А если в незнакомой компании кто–то спрашивает «Как у вас дела?», то не отвечайте односложно. Дайте вашему собеседнику за что–нибудь зацепиться. Это послужит хорошим началом для последующего разговора.
Правило 3. Попытайтесь говорить на том же языке, что и они.
Это не значит, что если в компании кто–то нецензурно выражается, то и вы должны следовать его примеру. Все, что от вас требуется это найти кого–то, у кого с вами одинаковые интересы — тогда и общий язык вам будет совсем нетрудно найти.
Правило 4. Не отзывайтесь ни о ком плохо.
По крайней мере, до тех пор, пока не начнете хорошо разбираться в ситуации. Если в компании начинают отзываться о ком–то нелестно, то это совсем не значит, что они хотят выслушать мнение малознакомого человека. Поэтому в такие моменты лучше промолчать.
Правило 5. Будьте искренним и обходительным, если вы забыли чье–то имя
Если вы хотите обратиться к человеку, но не помните его имени, то у вас есть два пути: подождать, пока его имя всплывет в разговоре (однако вы рискуете, что ваше обращение будет уже неактуальным), или спросить, как его зовут у него самого. Но когда вы задаете подобные вопросы, надо быть как можно обходительнее и вежливее. Постройте свою фразу примерно таким образом: «Простите, пожалуйста. Я забыла, как вас зовут. У меня плохая память на имена».
ВЛАДЕНИЕ ИСКУССТВОМ ОБЩЕНИЯ.
УСПЕХА ДОБИВАЕТСЯ ЛИШЬ ТОТ, КТО УМЕЕТ ПОЛУЧАТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ОБЩЕНИЯ С ЛЮДЬМИ
Будь то «междусобойчик» на работе или дипломатический прием, ищете ли вы приятных личных знакомств или стремитесь расширить деловые контакты — вы должны стремиться занять активную позицию в общении. Активность — основа лидерства. Уточняем — сейчас мы учимся занимать именно активную, а не доминирующую позицию. Вы не должны стремиться к доминированию, к подчинению других своей воле, к демонстрации своих лидерских качеств. Не торопитесь. Скорее всего, вы пока и не сможете этого сделать, а любые попытки приведут лишь к обратному результату. Ваши попытки, в лучшем случае, могут быть расценены как элементарное бескультурье, а в худшем… Впрочем, о плохом говорить не будем. Приведем лишь слова древнекитайского философа Лао-Цзы, который все сказал за две тысячи лет до нас:
Кто поднялся на цыпочки, не сможет долго стоять. Кто делает большие шаги, не сможет долго идти. Кто сам себя выставляет на свет, тот не блестит. Кто сам себя восхваляет, тот не добудет славы. Кто нападает, не достигнет успеха. Кто сам себя возвышает, не сможет стать старшим среди других. Все это называется тщеславным желанием и бесполезным поведением. Таких ненавидят и презирают все живые существа. Поэтому человек, обладающий мудростью, не делает этого.
Помня эти слова, приступаем к отработке навыков эффективного общения.
С кого начать?
Вы попали на прием, деловую встречу, корпоративную вечеринку, раут и т. п. Люди, разбившись на группы, беседуют. Здесь важно решить: в какую компанию влиться, с чего (с кого) начать общение.
Обычно мы прекрасно чувствуем себя в компании двух-трех приятелей, но неуютно — в окружении незнакомых людей. Часто нам бывает очень трудно завести с ними разговор. Боязнь общения — так можно определить этот своего рода недуг. Избавиться от него можно. Сделать это крайне необходимо, тем более что это под силу даже болезненно стеснительным людям. Овладеть искусством общения для многих становится в наши дни профессиональной задачей и первым шагом на пути к лидерству. Итак, вы решились? Тогда начинаем. Не забывайте, что все нижеизложенное носит характер именно практических рекомендаций. Эффективное общение сродни искусству плавания — чтобы научиться, неплохо для начала хотя бы войти в воду. Все, о чем вы узнаете, вы должны обязательно испробовать на практике. Простое чтение «ради интереса» не даст никаких результатов.
Следует придерживаться элементарного и проверенного на практике принципа эффективного общения: чем больше людей, тем меньше риск все испортить. Чем многочисленнее выбранная вами группа, тем больше шансов встретить человека, который отзовется (отреагирует) на вашу первую реплику и поможет начать разговор. Впрочем, если ваше появление окажется незамеченным и ваша реплика останется без ответа — не беда. У вас будет время присмотреться, прислушаться и, выбрав момент, вступить опять в общий разговор или незаметно ретироваться и повторить попытку в другой компании.
Как «включиться» в разговор
Метод «я — новенький». Осмотритесь, выберите среди присутствующих приятного вам человека (даже в самом неблагоприятном случае, когда гости разбились по группам в 2-3 человека и беседуют в узком кругу «своих людей»), подойдите и станьте рядом. Произведите какое-либо движение (действие) и, когда вас заметят, обратитесь к заранее намеченному вами гостю со словами: «Извините, Бога ради. Надеюсь, вы не будете против. Я здесь никого не знаю. Меня зовут... Не могли бы вы подсказать мне…» По реакции гостя вы сразу определяете, с кем имеете дело и можно ли рассчитывать на беседу. Любой ответ, кроме «какое вам дело?», годится для того, чтобы разговор завязался.
Такое начало общения почти гарантирует успех. «Чистосердечное признание» срабатывает потому, что практически всем знакомо ощущение неловкости и растерянности в незнакомой компании. Ваше признание дает чувство превосходства человеку, к которому вы обратились. Ведь ему предоставляется роль покровителя, а это — приятная роль. Применяйте этот прием, если вы действительно ни с кем не знакомы, и не чаще двух раз за один вечер. Иначе можно лишиться доверия присутствующих. К тому же, необходимо учитывать уровень вечеринки и вероятный социальный статус вашего потенциального визави. Например, вряд ли стоит так подходить к какому-нибудь министру или другой высокопоставленной персоне. Скорее всего, это вызовет только легкое недоумение — а кто вы, собственно, такой и что делаете в компании «солидных людей»? А может, вам здесь и не место вовсе? В таких случаях вам сможет помочь другой метод.
Метод «я — свой» подобен тактике «втирания» в очередь, которую нередко используют хитрые покупатели. Вы как можно незаметнее пристраиваетесь к выбранному кружку гостей, чтобы никто не понял, что вы «новенький». Еще это очень похоже на присоединение к пению: вы гармонично сливаетесь с общим звучанием голосов.
Первым делом попытайтесь наладить визуальный контакт с лидером группы или тем человеком, кто в данный момент говорит. Здесь вам поможет один прием. Замечено, что рассказывающий что-либо нескольким слушателям всегда больше смотрит на того, кто ему периодически кивает. Это вполне объяснимо — ведь именно от него он получает психологическую поддержку: «Раз я вам киваю, значит вас понимаю, полностью согласен с вами». Используйте это. Психологи знают, что при разговоре с приблизительно равными по статусу лицами говорящий обычно обращается чаще к тому члену группы, кто кивает. При этом возникает интересный психологический эффект: у остальных создается впечатление, что именно он — самый значимый среди них. Ведь обращаясь к группе, больше внимания обычно уделяют более значительному лицу в ней. Таким нехитрым образом, кивая, вы можете поднять свой статус слушателя в группе. Разумеется, старайтесь не походить при этом на игрушечного китайского болванчика, кивающего головой без остановки. Все должно быть естественно.
Следующий принцип эффективного общения — учет взаимного расположения в пространстве. Хорошо знающие люди предпочитают располагаться сбоку друг от друга. Подобное расположение подсознательно ассоциируется с благорасположением беседующих и взаимной симпатией. И наоборот, при прочих равных условиях конфликты чаще всего возникают между людьми, находящимся друг против друга. Понятие «противостояние» существует отнюдь не случайно. Такая позиция подспудно провоцирует чувство соперничества и соревновательно-оборонительные отношения. Поэтому вам лучше находиться рядом или под углом к самому активному члену группы.

При достаточном внимании с вашей стороны к ведущему разговор вы сможете уловить удачный момент и спокойно включиться в него. При этом важно правильно подстроиться к общему темпу, громкости и ритму беседы. (Например, не нужно громко говорить, если все остальные беседуют вполголоса и т.д.) И тогда всем покажется, что вы все время были в их компании. Если же вам не удалось незаметно приблизиться к этому кружку (появление «чужака» заметили) — опять-таки не беда. Моментально, «сходу» подайте реплику, реагируя на то, что успели услышать, и вас почти наверняка признают за «своего». Главное — говорить спокойно, решительно и непринужденно. Напряженный голос и скованная поза сведут вероятность успеха к нулю, ибо соответствующее состояние мгновенно передастся окружающим и вызовет всеобщее чувство неловкости. Впрочем, другая крайность — надменный вид, скрещенные спереди или сзади руки (позиция превосходства) — также недопустима. Если же у вас не хватит духу быстро познакомиться с незнакомыми людьми и вы станете в нерешительности перебегать от одной группы к другой, вы рискуете так ни с кем и не заговорить за весь вечер, и желанное общение не состоится.
Не тратьте время зря
Порой бывает просто невозможно отделаться от неинтересного (или неприятного) собеседника, и многие просто сдаются, обрекая себя на его компанию до самого конца вечера. Но такой исход вам не подходит. Ваша цель — смешаться с массой гостей, поднять себе настроение, успеть со всеми переброситься репликами, обменяться визитками, и получить от этого удовольствие. А также завести полезные в будущем знакомства, связи.
Если вы топчетесь на одном месте, не представляя себе, как отойти, когда обсуждаемая тема вас не интересует, вы рискуете потерять вечер и не достичь цели. Прелесть светского общения в том, чтобы свободно курсировать от одного гостя к другому. А для этого необходимо знать, в какой момент и каким образом можно «менять стоянку».
Оптимальное время светской беседы на многолюдной вечеринке — 5-20 мин на одну «душу». Предел — 30 мин. Помните: вы здесь для того, чтобы учится знакомиться с людьми и завязывать новые контакты. Если собеседник интересный — дате себе слово вернуться к нему после того, как познакомитесь с десятком гостей. Можно взять у него визитную карточку и договориться о встрече в другом месте.
Двигайтесь, двигайтесь…
…но двигайтесь не хаотически, а с целеустремленным видом. Движение, активность и целеустремленность всегда привлекает к вам внимание. Если, отойдя от собеседника, вы остановитесь в нерешительности, не зная куда направиться, вашу растерянность заметят многие. А те, кого вы только что покинули, могут подумать, что вы попросту брезгуете их обществом и предпочитаете провести вечер в одиночестве, чем остаться с ними. Это, по меньшей мере, невежливо.
Психологическое обоснование движения «на виду у всех» состоит в следующем. Двигаясь, вы обращаете на себя внимание окружающих. А место «на виду у всех», в центре внимания, большинством людей подсознательно воспринимается как более престижное. Ведь большего внимания всегда удостаиваются люди с более высоким статусом. И поэтому уже само нахождение человека в центре внимания многие воспринимают как указание на его значительность. Кроме того, психологи установили, что чем больше времени человек находится «на виду», тем выше к нему симпатия окружающих. Разумеется, у отдельных людей может возникнуть негативное ощущение, что вы им «мозолите глаза». Это как раз те люди, которые сами претендуют на лидерство и повышенное внимание к своей персоне. В результате у них может появиться чувство враждебности и соперничества по отношению к вам. Но в целом рост симпатии у окружающих идет гораздо более быстрыми темпами, чем рост враждебности. Поэтому такой тип поведения особенно рекомендуется людям, страдающим от застенчивости и привыкшим считать себя «непопулярными» или «отвергаемыми». Как правило, они двигаются очень мало и предпочитают почти всю вечеринку оставаться на одном месте. Не стойте молча у стенки, преодолейте скованность и начните больше двигаться — результат не заставит себя ждать.
Помните, маршрут движения легче всего выбрать в тот момент, когда говорите вы, особенно если у вас всего один или два собеседника. Невежливо отводить глаза, когда говорят с тобой. Если же вы окружены группой гостей и внимание не сосредоточено на вас, можете осмотреться и выбрать маршрут. Но делать это следует так, чтобы никто не заметил, как ваш взгляд перемещается по залу. Это может быть расценено и так: «Вам здесь уже скучно», а это обидно для окружающих. Как красиво уйти? Существует несколько способов.
«Ваше время истекло». После по крайней мере десятиминутной беседы надо как можно искреннее сказать: «Как с вами хорошо, а надо и остальных поприветствовать» или «Я не хочу узурпировать ваше время, к тому же мы договорились о встрече». В этом нет ничего зазорного.
«Уходим по-английски». Дождитесь момента, когда никто из собеседников с вами не говорит и не смотрит на вас в упор, и незаметно исчезайте. При этом будьте готовы адекватно отреагировать в случае, если разговор неожиданно коснется вас. Когда же вы окажетесь вне поля зрения бывших собеседников, — «бегите».
«Смена караула». Как только кто-нибудь из гостей обратится к вашему собеседнику, который вам уже в тягость, в ту же секунду «испаряйтесь»: появление нового собеседника открыло вам путь к отступлению. Это довольно пассивный прием, но к нему прибегают практически все.
«Подставь ближнего своего». Представьте ситуацию: вам приходится выслушивать абсолютно неинтересные разглагольствования подвыпившего собеседника. При этом обращаются непосредственно к вам, а стоящий рядом гость предпочитает отмалчиваться. Нет никакой возможности «уйти по-английски». Что делать? Продолжая кивать и усердно поддакивать, постарайтесь похитить из соседней компании кого-нибудь, с кем уже пообщались. Тут же представьте его вашему собеседнику так, будто вы оказываете огромную услугу им обоим: у них масса общих интересов, и они обязательно понравятся друг другу! Будьте внимательны — как только их взгляды встретятся, вы быстро уходите.
Описанные приемы светского общения помогут вам проявить инициативу в незнакомом обществе. Двух одинаковых обществ не бывает. Поэтому точно моделировать ситуацию не представляется возможным. Но, владея навыками эффективного общения, вы наверняка будете чувствовать себя увереннее в любой ситуации.
А теперь небольшое практическое упражнение для самоконтроля.
Ситуация. Вы пришли на корпоративную вечеринку (светский раут и т.п.). Вы хотите завести новые знакомства, стать «душой компании», показать себя интересным и компетентным собеседником, а если получится — то и возглавить и повести за собой разговор, проявив некоторую степень лидерства в группе.
Вот вы, наконец, набрались решительности и пытаетесь присоединиться к группе, обсуждающей какую-либо проблему. Ее участники — солидные люди, занимающие высокое положение. Все они имеют большой жизненный и профессиональный опыт, достигли многого, знают себе цену, привыкли руководить и быть в центре внимания. Поэтому ведут себя спокойно и уверенно, постоянно демонстрируя собственную значимость.
Вы, к сожалению, пока не достигли больших вершин в своей жизни. Собеседники чувствуют, что ваш социальный статус не слишком высок. Поэтому на все ваши попытки проявить себя, сказать что-либо важное или интересное остальные реагируют холодно и недоуменно (мол, кто еще такой объявился?). На вас смотрят «сверху вниз», слушают невнимательно и без интереса. Кроме того, стоит вам на секунду замешкаться и замолчать, чтобы перевести дух, как кто-то моментально перебивает вас на полуслове и «перетягивает одеяло на себя». Солидные дяди и тети, не снисходя до ответа на ваши робкие реплики, продолжают светскую беседу, полностью игнорируя ваше присутствие. Вы для них — пустое место, не представляющее никакой ценности и интереса.
Задание. Подумайте, каким образом можно изменить ситуацию в свою пользу? Как оказаться в центре беседы? Как заставить относится к себе, как к равному, с должным вниманием и уважением? Помните: проявить лидерскую инициативу — совсем не значит вести себя нагло и вызывающе. Эффективное общение состоит вовсе не из этого. Результаты такого поведения будут плачевны.
Используйте ту информацию, которую вы почерпнули из данных заметок, но попытайтесь не зацикливаться на ней. Придумайте свои собственные «хитрые» методы и приемы достижения поставленной цели. Возможно, у вас уже имеются какие-то собственные наработки, которые вы давно и успешно применяете в подобных ситуациях? Вы дошли до них «собственным умом» или почерпнули из психологической литературы. В таком случае подумайте об уместности их применения. Обязательно сообщите нам о своих впечатлениях, как позитивных, так и негативных.

http://vk.com/schtora
http://vk.com/partnerkipro
SITEMAP
Кому нельзя голодать?
Цистит
Сладости в питании ребенка.
ПМС можно избежать с помощью правильной диеты
О чем думает новорожденный?
Вред от извести.
Психологическая, психогенная импотенция
Бессонница.
Правильный хлеб
Половое бессилие - мужская проблема №1
Зачем обращаться к психологам?
Гнев - Как правильно себя вести
Отношения с собой
Введение
Что вызывает неврозы
Мужская психология
Понять психологию и природу человека
Психологическая сущность совести
Фобии
Цитаты психологов
Различные виды психозов
Психология бессознательного
Самоубийство - суицид
Импотенция излечима!
Проблемы мужского здоровья: эректильная дисфункция у мужчин
Как работает человек
Для кого все это делается?
Главные женские ошибки в постели
Выводим токсины
Как люди выражают свои стремления?

Секс и "сложные случаи"
2014-07-22 10:45:00 (читать в оригинале)Что вызывает психозы?
Фобии
Самые вредные привычки «трудоголиков»
Для кого все это делается?
Улучшить потенцию
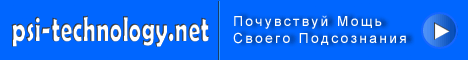
Секс в зрелом возрасте.
Почему-то принято считать, что старики сексом не занимаются и не испытывают в этом никакой нужды. Однако исследования показывают, что это совсем не так.
Кроме возраста на сексуальную активность в старости большое влияние оказывают еще три параметра - половая активность в течение жизни, состояние физического и психического здоровья. Оказывается, большинство людей, которые привыкли к частым половым связям, ведут активную половую жизнь и после 80 лет. Конечно, если это позволяет состояние их здоровья. Пожилые люди не только испытывают необходимость в сексе, но нередко получают от него даже большее, чем в молодости, удовольствие.
Среди сложностей, с которыми, желая наладить свою половую жизнь, сталкиваются пожилые люди, важную роль играют соматические заболевания. Особенно непросто приходится тем, чьи суставы поражены артритом. Не стоит забывать также про болезни сердечно-сосудистой системы, которые не позволяют людям переносить даже незначительную физическую нагрузку.
Безусловно, есть и трудности социально-психологического плана. В обществе существуют эталоны красоты и сексуальной привлекательности. И пожилые люди тяжело переживают, вплоть до появления депрессивных состояний, что с каждым годом этот "эталон" все дальше, и найти себе партнера почти невозможно. Особенно сложно приходится овдовевшим женщинам, потому что в их возрастной группе, как правило, серьезный "недостаток" мужчин.
Сексуальные проблемы пожилых людей, не желая того, усугубляют даже врачи. Дело в том, что многие из них разделяют стереотип, что старикам половая жизнь не нужна. В итоге, ни врач, ни пациент не решаются заговорить о сексуальных проблемах, а следовательно, не решают их.
Половая жизнь при бесплодии.
Казалось бы, бесплодие никак не должно мешать обычной половой жизни. Однако, говорят психологи, на практике это не так. Во-первых, само это заболевание является причиной беспокойства, отчаяния, депрессии, которые, несомненно, влияют на сексуальную жизнь.
Помимо этого близким отношениям мешает процесс лечения бесплодия: дело в том, что многие необходимые медицинские обследования проводятся только в короткий период времени после полового акта. Соответственно последний из физиологической потребности превращается в потребность чисто медицинскую. Причем, неприятную.
Для пар, страдающих бесплодием, характерно рискованное сексуальное поведение. Думая, что это поможет решить их проблемы, они идут на случайные связи, пренебрегая при этом средствами защиты от венерических заболеваний. Иногда у них прослеживается стремление к извращенным видам половых актов.
Секс и беременность.
Еще одним состоянием, которое осложняет сексуальную жизнь, является беременность. С вынашиванием ребенка связаны очень серьезные изменения в организме женщины: от фигуры до гормонального фона и поведения. Поэтому большинство беременных считают, что ребенку могут повредить многие ранее привычные вещи. К примеру, есть мнение, что половая жизнь во время беременности приводит к невынашиванию, преждевременным и стремительным родам, а также врожденным уродствам.
Однако, как свидетельствуют результаты исследований, регулярная половая жизнь практически никак не сказывается на течении первых двух триместров беременности. Единственная проблема - половой акт может быть для женщины довольно болезненным. И в этом случае, действительно, сексуальную жизнь можно временно прекратить.
Сексуальные нарушения во время беременности характерны не только для женщины, но и для ее партнера-мужчины. Он, как и его супруга, зачастую боится причинить вред будущему ребенку и избегает половых контактов. На фоне этой фобии могут развиться и чисто "мужские" нарушения - импотенция и преждевременная эякуляция.
Три описанных выше состояния - бесплодие, старость и беременность - это лишь примеры из ряда факторов, которые оказывают значительное влияние на половую жизнь. Помимо этого, сексуальные нарушения возникают из-за болезней, психологических и физических травм и многих других обстоятельств...
И, приходя к врачу, пациенту не нужно стесняться говорить о своих интимных проблемах, связанных с основным заболеванием. С другой стороны, жаль, что врач не интересуется нарушениями в сексуальной сфере - он считает это не своим делом. А зря. Большинство из таких проблем вполне решаемы.
Разговоры о сексе, или вред молчания.
Фантазии становятся болью и преследуют по ночам, заставляя ныть животик. А как сказать парню, что я все это хочу? Что он подумает про меня? Вдруг обидится, скажет, что я развратная, что у меня до него было море парней.
Эти вещи ведь и в семьях встречаются. Разве я не прав? Эта женская боязнь секс-разговоров с мужчиной о ее желаниях только потому, что он про нее подумает, какие вопросы потом будет задавать. А ведь вопросы могут быть жесткие, вплоть до развода...
Хочу поделиться мыслями относительно важной, на мой взгляд, темы - молчание в сексе. К чему приводит в дальнейшем отсутствие секс-разговоров, сколько пар из-за молчания в сексе расходятся от неудовлетворенности своих желаний... Без всякой статистики скажу, что из двух людей в паре, самый фантазирующий - женщина. Я пишу в общем, так как естественно, что и мужчины любят пофантазировать. Но это - в более позднем возрасте. А в возрасте примерно от 23-29 лет, этой проблемы как-бы не существует. Я пишу свои мысли совсем молодым парням и девушкам, хотя, скажу из опыта - и в зрелом возрасте есть люди, которые стесняются высказать свои желания партнеру по сексу.
У парней все до смешного просто. Какие фантазии, какие секс-разговоры... Увидел девушку, понравилась - захотел. И кажется, единственная мысль, которая сидит у него в голове - не ухаживания, не внимание, а постель. И побыстрее. Я знаю мнение многих девушек по этому поводу. Это в более зрелом возрасте мужчина умеет говорить в постели, понимать женщину, спрашивать о ее желаниях, предпочтениях и проч. А что молодые? Опыта еще мало, вот и остается только мысль о "почаще" и "побольше". А нравиться ли это его девушке или нет - ему как-бы до лампочки...
Внутренний мир женщины во многом отличен от мужчины. Он более сложный. Я не говорю, что прямо все девушки желают сначала познакомиться поближе, узнать друг-друга, походить в кино, кафе, принять ухаживания парня и морально подготовиться к сексу. Не все этого желают... Но большинство. У парней все по-другому. Им все это не нужно. Нужен секс... побыстрее... И рано или поздно этот самый секс происходит. Если, конечно, парень не сбежал к другой, считая., что его слишком долго водили за нос. Ведь девчонок вокруг - пруд пруди. Не ты, так другая. Похоже на действительность?...
И вот он - секс с парнем. Скажу, что ничего похожего на петтинг там и близко нет, по крайне мере в 90 случаях из 100... Давайте посмотрим, как в основном происходит этот самый секс. Парни, как правило, не интересуются, что хотят девушки. Миссионерская поза на спине и пошел "накручивать километры". Позже, друг во дворе, к примеру, рассказал, что его девушка делала ему минет. О! И опять, не спрашивая - умеет ли девушка и вообще - хочет ли, начинается навязывание ей минета. И так далее, вплоть до грубого анального секса... Такое обращение очень обижает девушек. И даже если они из боязни потерять "первого красавца района" молчат, поверьте, у них в душе назревает протест, который позже выливается в скандал и уход по своим углам. Я уже молчу, сколько боли от неумелых молчаливых действий испытывают девушки, сколько травм получают от не в меру разошедшегося партнера, сообщает News.rin.
Теперь о девушках. Да, они более развиты физически, более романтичны и у них больше развита фантазия и воображение. То ли приснилось вдруг, то ли увидела отрывок из эротического фильма, как девушка красиво делает минет или занимается анальным сексом. Или как парень красиво и нежно ласкает девушку, забыв о себе и предпочитая ласки ее тела. И девушка этого хочет... Фантазии становятся болью и преследуют по ночам, заставляя ныть животик. А как сказать парню, что я все это хочу? Что он подумает про меня? Вдруг обидится, скажет, что я развратная, что у меня до него было море парней. Эти вещи ведь и в семьях встречаются. Разве я не прав? Эта женская боязнь секс-разговоров с мужчиной о ее желаниях только потому, что он про нее подумает, какие вопросы потом будет задавать. А ведь вопросы могут быть жесткие, вплоть до развода...
Молчание в сексе практически всегда приводит к негативным последствиям. Как правило и в семьях и просто при встречах, секс с одним и тем же партнером из-за его скудности и обыденности начинает надоедать. Женщина неудовлетворенна и ей осточертели эти ежедневные марафоны без ласк, разнообразия и оргазмов. И начинается озлобление, ругань, даже измены. Ведь измена - это нахождение на стороне того, чего нет с партнером. И мужчины из-за упорного молчания женщин тоже начинают охладевать к ним... Мужчины разговаривают о женщинах всегда... и много... И когда его друг хвастает, какой ему сделали шикарный минет, или как его подруга с ним занималась анальным сексом, или что они вытворяли в ванной... кухне... на подоконнике... в речке и т.д, он начинает сравнивать и - тоже озлобляться. Как же - его девушка не дарит ему таких прелестей!
А поговорить? Даже опытным людям без секс-разговоров и вопросов, в сексе не обойтись. К примеру:
- милая, я бы очень хотел, что бы ты целовала мне член ротиком. А ты хотела бы? Давай, если не умеешь, посмотрим фильм или осторожно попробуем сами...
- милый, знаешь, я вот очень боюсь боли... но мне хочется попробовать анальный секс. Тебе не противно? Ты хочешь это попробовать?...
- милая, тебе будет приятно, если я язычком поласкаю твою пусси? Ты хочешь, тебе нравится?...
- милый, мне очень хочется почувствовать твой язычок на своей попке... а ты хочешь это? Давай попробуем, а потом скажем друг-другу ощущения...
- милый, я устаю от твоих постоянных заходов в меня. Ты не мог бы разнообразить наш секс ласками? Ну, больше целоваться, менять позы... Давай попробуем ласкать друг-друга руками, губами и язычком...
- милый, а давай сегодня мы будем любить друг-друга жестко, можешь даже завязать мне глаза... А завтра - только нежные ласки... и еще милый... я хочу это в ванной, в воде, ты не против?... и т.д. ...
Как вы думаете, выиграет в сексе такая пара или нет? Будет ли парень задавать глупые вопросы по поводу развратности девушки, если соблюдены и его интересы? У опытных взрослых пар именно так все и происходит Только еще и во время самих прелюдий тот или иной партнер руководит ласками другого, подсказывая нужные моменты. И они могут достичь неимоверного пика в сексе... и все благодаря взаимности, общению, благодаря тому, что в сексе они умеют разговаривать...

http://vk.com/schtora
http://vk.com/partnerkipro
SITEMAP
Пища для ума
Различные виды психозов
Цистит
Бессонница.
Самоубийство - суицид
ПМС можно избежать с помощью правильной диеты
Зачем обращаться к психологам?
Бесконечность и консультирование
Грани нереального
Психологическая сущность совести
О чем думает новорожденный?
Хочется шоколада? Съешь орех!
Омолаживающая гимнастика для лица за 6 секунд
Что вызывает психозы?
Как уснуть чтобы проснуться отдохнувшим. Лучшие позы для сна
Отношения с собой
Гнев - Как правильно себя вести
Сладости в питании ребенка.
Психология бессознательного
Избавляемся от папиллом
Правильный хлеб
Как работает человек
Цитаты психологов
Мужская психология
Психологическая, психогенная импотенция
Проблемы мужского здоровья: эректильная дисфункция у мужчин
Половое бессилие - мужская проблема №1
Смехотерапия
Кому нельзя голодать?
Введение

Грани нереального
2014-07-18 10:45:00 (читать в оригинале)Различные виды психозов
Как люди выражают свои стремления?
Правильный хлеб
Бессонница.
Гарциния камбоджская - снизит массу тела
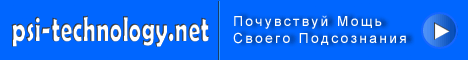
Фантазия является еще одной творческой способностью нашей психики. Следы ее деятельности можно обнаружить в различных явлениях, уже описанных нами. Подобно отчетливому проецированию нашим сознанием тех или иных воспоминаний или возведению причудливых строений нашим воображением, фантазия и мечты являются разновидностью творческой деятельности психики. Способность предвидеть и предрешать, необходимая любому организму, умеющему двигаться, также является важной составной частью фантазии. Фантазия связана с подвижностью человеческого организма и, по существу, есть не что иное, как один из методов предвидения.
Фантазии детей и взрослых, которые иногда называют мечтами, всегда связаны с будущим. Эти «воздушные замки» являются их целью, созданной воображением в качестве образца для реальной деятельности. Исследования детских фантазий ясно показывают, что стремление к власти над другими играет в них доминирующую роль. В своих мечтах дети выражают свои амбиции. Большая часть их фантазий начинается со слов «когда я вырасту» и так далее. Есть немало взрослых, которые тоже живут так, будто они еще не выросли. То, что стремлению к власти очевидно придается особое значение, еще раз демонстрирует — психика может развиваться лишь тогда, когда перед личностью поставлена некая цель; в нашей цивилизации эта цель подразумевает общественное признание и положение. Личность никогда не остается надолго с какой-нибудь нейтральной целью, так как жить среди людей — значит непрерывно оценивать себя, а это порождает желание главенствовать и надежду на успех в соревновании. В детских фантазиях почти всегда встречаются ситуации, в которых ребенок над кем-то властвует. Нам не следует обобщать, поскольку установить для фантазии или воображения какой-то предел невозможно. Сказанное нами во многих случаях верно, однако в других ситуациях может оказаться неприменимым. У детей с агрессивным подходом к жизни способность фантазировать развивается в большей степени потому, что их отношение к другим вынуждает их более надежно защищаться. А у очень слабых детей, жизнь которых не всегда приятна, способность фантазировать крайне развита, и они особенно склонны замыкаться в своем вымышленном мирке. На определенном этапе их развития способность фантазировать может стать способом ухода от реальной жизни. Фантазией можно злоупотребить, отвергнув ради нее действительность, и в таком случае она становится для индивидуума чем-то вроде ковра-самолета, на котором он воспаряет над убожеством этой жизни силой своего воображения.
Наряду со стремлением к власти, социальное чувство также играет важную роль в нашем мире фантазий. В детских фантазиях стремление к власти почти всегда включает в себя какое-то применение этой власти в социальных целях. Мы ясно видим подобную особенность в тех фантазиях, где мечтатель становится спасителем или рыцарем, торжествующим над силами зла и угнетения. Нередко также встречаются фантазии, в которых ребенок не принадлежит к своей семье. Многие дети верят, что на самом деле они родились в другой семье и когда-нибудь их настоящие родители, люди высокого положения, придут и заберут их к себе. Чаще всего такие фантазии наблюдаются у детей с глубоким чувством неполноценности. Они чувствуют себя обделенными любовью и расположением или оттесненными на задний план в кругу своей семьи и поэтому придумывают для себя новую семью. Идеи величия проявляются еще в одном отношении: весьма часто ребенок действует так, будто он уже вырос. Иногда эта фантазия приобретает едва ли не патологические черты — например, у мальчиков, которые пытаются пользоваться отцовской пеной для бритья или пробуют курить его сигареты, или у девушек, которые решают, что им хочется стать мужчинами, а потому одеваются и ведут себя так, как больше пристало юношам.
Считается, что у некоторых детей нет воображения. Это безусловное заблуждение. Либо такие дети не могут выразить себя, либо есть какие-то причины, которые заставляют их отгонять свои фантазии. Подавляя воображение, ребенок может ощущать себя сильным. В своем отчаянном стремлении приспособиться к реалиям взрослого мира такие дети считают, что фантазии — это ребячество, и отказываются предаваться им; в некоторых случаях эта антипатия заходит настолько далеко, что кажется, будто ребенок абсолютно лишен воображения.
СНОВИДЕНИЯ: ОБЩИЕ СООБРАЖЕНИЯ
Кроме дневных грез, описанных выше, мы должны проанализировать ту важную и многозначную деятельность, которая происходит во время нашего сна, — «ночные» грезы. В принципе можно сказать, что сновидение — это повторение того же процесса, который имеет место в дневных грезах. Опытные психологи уже указывали на то, что характер человека можно легко распознать по его сновидениям. Фактически сновидения чрезвычайно занимали человечество с самого начала истории. В сновидении, как и в дневных грезах, мы имеем дело с попыткой предначертать, спланировать и направить будущую жизнь к конечной цели — безопасному существованию. Наиболее очевидное различие состоит в том, что дневные грезы сравнительно легко понять, в то время как постигнуть смысл сновидений удается лишь изредка. Неудивительно, что сновидения трудно поддаются расшифровке, и из этого мы легко могли бы заключить, что, следовательно, сновидения суть нечто излишнее и не имеющее значения. Пока достаточно сказать, что у индивидуума, который старается преодолеть трудности и обеспечить свое положение в будущем, стремление к власти отражается в сновидениях. Сновидения дают нам важные ключи к проблемам эмоциональной жизни человека.
ЭМПАТИЯ И ОТОЖДЕСТВЛЕНИЕ
Психика имеет способность не только воспринимать то, что существует реально, но также предчувствовать или предугадывать то, что произойдет в будущем. Это важное добавление к функции предвидения, которая необходима любому организму, способному двигаться, поскольку такому организму постоянно приходится решать задачи адаптации к окружающей действительности. Эта способность также связана со способностью к отождествлению, или эмпатии, которая у людей чрезвычайно развита. Уровень ее развития настолько высок, что ее можно найти в любом уголке любой души, и необходимость предвидения является главным условием ее существования. Если мы должны предрешать и предсказывать, как нам следует поступить в той или иной возможной ситуации, то мы должны научиться принимать верное решение, соотнося наши мышление, чувства и восприятие. Нужно найти точку зрения, с которой мы сможем действовать в новой ситуации либо более энергично, чтобы разрешить ее, либо более осторожно, чтобы избежать.
Эмпатия происходит в тот момент, когда один человек говорит с другим. Невозможно понять другую личность, если одновременно не отождествлять себя с ней. Театр — это наиболее открытое художественное выражение эмпатии, поскольку благодаря искусству драматурга мы с готовностью отождествляем себя с героями на сцене и мысленно играем самые разнообразные роли. Примерами эмпатии в повседневной жизни могут быть случаи, когда мы ощущаем странное беспокойство, видя другого человека в опасности. Эта эмпатия может быть настолько сильной, что мы делаем невольные движения, чтобы защитить себя, хотя нам лично ничто не угрожает; всем известно, как неосознанно реагируют люди, если кто-то среди них роняет бокал! В кегельбане можно наблюдать, как некоторые игроки, следя за катящимся шаром, делают невольные телодвижения, будто пытаясь повлиять на него. Еще один общеизвестный пример — пассажиры автомобиля, которые нажимают на воображаемую тормозную педаль всякий раз, когда они ощущают себя в опасности. Мало кто способен наблюдать за работой человека, моющего окна высокого здания, не вздрагивая от страха, а когда оратор теряет нить мысли и не может продолжать речь, вся его аудитория ощущает неловкость и смущение. Вся наша жизнь в большой степени зависит от этой способности к отождествлению себя с другими. Если мы станем искать истоки этой способности действовать и чувствовать так, будто мы — не мы, а кто-то другой, то сможем найти их в способности сочувствовать другим, которая дана каждому человеку от рождения. Это чувство присуще всем, оно отражает единство вселенной, частью которой каждый из нас является; это неотъемлемая черта любого человеческого существа. Оно дает нам возможность отождествить себя с тем, что находится за пределами нашего непосредственного опыта.
Подобно тому, как имеются различные степени социального чувства или общественного духа, существуют также различные степени эмпатии. Это можно наблюдать уже в детстве. Одни дети играют с куклами так, будто это люди, между тем как другим интереснее посмотреть, из чего они сделаны. Развитие личности может совершенно прекратиться, если она начнет переносить общественные отношения между людьми на животных или неодушевленные предметы.
Случаи проявления жестокости к животным у детей возможны лишь при почти полном отсутствии социального чувства и способности сопереживать другим живым существам. Вследствие такого дефекта дети начинают интересоваться тем, что имеет очень малую ценность или значение для их превращения в членов общества. Эта неспособность поставить себя на место другого, сопереживать ему, может зайти настолько далеко, что человек иногда полностью отказывается от общения с себе подобными.
ВЛИЯНИЕ, ВНУШЕНИЕ И ГИПНОЗ
Психология личности отвечает на вопрос «Как для одного индивидуума оказывается возможным влиять на поведение другого?» следующим образом: восприимчивость к влиянию других — одно из важнейших проявлений нашей психики. Общественный образ жизни был бы невозможен, если бы один индивидуум не мог влиять на другого. В некоторых случаях эта особенность оказывается акцентированной — например, во взаимоотношениях между учителем и учеником или родителем и ребенком. Благодаря врожденному социальному чувству люди подчиняются влиянию друг друга в той или иной степени по доброй воле. Степень этой добровольности зависит от того, насколько человек, оказывающий влияние, признает права человека, являющегося объектом этого влияния. Невозможно долгое время претендовать на уважение человека, которому мы причиняем зло. Наше влияние на другого наиболее эффективно тогда, когда тот человек чувствует, что его права защищены. Этот момент очень важен для педагогики. Может быть, и удастся представить себе и даже создать какую-нибудь другую педагогическую систему, однако система, принимающая во внимание этот момент, будет эффективной, поскольку она апеллирует к самому древнему инстинкту человека — его чувству единства с человечеством и вселенной.
Этот подход окажется бесполезным только в том случае, когда мы имеем дело с человеком, который по собственной воле вышел из-под влияния общества. Такой уход происходит не случайно. Ему должна предшествовать продолжительная битва, во время которой человек мало-помалу разрывает свои связи с миром, пока, наконец, он не переходит в открытую оппозицию обществу. После этого влиять на его поведение становится трудно или невозможно, и мы наблюдаем драматическое зрелище — человек встречает любую попытку повлиять на него ожесточенным сопротивлением.
Дети, которые чувствуют, что окружающая действительность подавляет их, скорее всего будут труднообучаемыми. Тем не менее бывают случаи, когда внешнее давление настолько велико, что оно сметает все препятствия, в результате чего авторитарное влияние сохраняется и ему повинуются. Однако легко показать, что подобное влияние не идет на пользу обществу. Иногда оно принимает такой гротескный вид, что приученный к повиновению индивидуум становится нежизнеспособным, так как его привычка к рабскому повиновению лишает его возможности действовать и мыслить самостоятельно. Опасность развития этой склонности к подчинению можно наблюдать на примере послушных детей, которые и после того, как выросли, с готовностью подчиняются любым приказаниям, даже если Для этого необходимо преступить закон.
Интересным примером того, как действует подчинение и подавление, являются шайки преступников. Те, кто выполняют приказания главаря, слепо подчиняются ему, в то время как он сам обычно держится от происходящего на почтительном расстоянии. Почти в каждом серьезном судебном процессе над преступной группой козлом отпущения оказывался какой-нибудь угодливый человечек. Подобное беспредельное, слепое повиновение доходит до такой невероятной степени, что порой встречаются люди, которые даже гордятся своим раболепием и видят в нем способ самоутверждения.
Если мы ограничимся лишь случаями нормального взаимного влияния, мы обнаружим, что наиболее восприимчивы к влиянию те люди, которые лучше всего воспринимают голос разума и логики, те, чье социальное чувство меньше всего искажено. С другой стороны, те, кто жаждет главенствовать и желает подавлять, очень трудно поддаются влиянию. С примерами такой закономерности мы сталкиваемся ежедневно.
Редко можно встретить родителей, жалующихся на беспрекословное послушание своего ребенка. Наиболее распространены жалобы на непослушание. Если мы расспросим таких детей, окажется, что они чувствуют себя в чем-то ущемленными и протестуют против этого, пытаясь преодолеть ограничения, которые накладывает на них окружающая действительность. С ними обращались дома так, что нормальное обучение сделалось для них невозможным.
Сила нашего стремления к власти над другими обратно пропорциональна степени нашей обучаемости. Несмотря на это, главной целью семейного воспитания в большинстве случаев является подстегивание честолюбия ребенка и внушение ему идеи собственного величия. Это происходит не по недомыслию, а оттого, что подобными грандиозными заблуждениями проникнута вся наша культура. В семье, как и в обществе в целом, наибольшее внимание обращают на самое большое, самое лучшее, самое знаменитое. В главе о тщеславии нам представится возможность показать, насколько несовместим такой метод с общественной жизнью и как затруднено может быть развитие интеллекта препятствиями, которые на его пути ставит честолюбие.
Индивидуумы, с легкостью меняющие свою позицию под влиянием малейших изменений в ситуации из-за своей привычки к беспрекословному послушанию, подобны объектам гипнотизера. Представьте себе, что вам в течение нескольких минут необходимо подчиняться каждой прихоти, которую захочет высказать любой желающий! В основе гипноза лежит идея подчинения. Человек может говорить и даже верить, что он согласен быть загипнотизированным, однако психологическая готовность к подчинению может отсутствовать. Другой индивидуум может сопротивляться на уровне сознания, но тем не менее подсознательно он согласен подчиниться. Во время гипноза поведение объекта определяет только его психологическая установка. То, что он говорит или думает, не имеет никакого значения. Недопонимание этого факта стало причиной появления большого количества ложных слухов относительно гипноза. Нас, как правило, заботит судьба индивидуумов, которые внешне сопротивляются гипнозу, однако подсознательно согласны подчиниться требованиям гипнотизера. Степень этой готовности к подчинению может варьироваться от одного объекта к другому, а следовательно, и влияние гипноза также индивидуально. Степень готовности быть загипнотизированным никогда не зависит от воли гипнотизера. Ее определяет лишь установка объекта.
В основе своей гипноз походит на сон. Его тайна заключается только в том, что в этот сон можно погрузиться по приказу другого человека, а приказ этот действует только тогда, когда он отдается кому-то, кто согласен ему подчиниться. Определяющими факторами, как обычно, являются натура и характер объекта. Загипнотизировать можно лишь того, кто согласен исполнять требования другого, не применяя своих способностей к критике. Гипноз отличается от обычного сна тем, что он подчиняет способность к движению до такой степени, что даже моторные центры мобилизуются по команде гипнотизера. Все, что остается от сна в этом состоянии, — это легкая дремота, и о происшедшем запоминается только то, что позволит запомнить гипнотизер. Наиболее важная черта гипноза: в гипнотическом трансе наша способность к критике, этот драгоценнейший дар нашей души, полностью парализована. Загипнотизированный объект становится, так сказать, орудием гипнотизера, органом, действующим по его приказу.
Большинство людей, имеющих сильно развитую способность влиять на поведение других, приписывают ее какой-то присущей им таинственной власти. Это причиняет огромный вред, и не в последнюю очередь нужно указать на пагубную деятельность эстрадных гипнотизеров. Эти шарлатаны совершают такие тяжкие преступления против человечества, что ради своих гнусных целей они прибегнут к любым средствам. Это не означает, будто все, что они делают, — жульничество. К несчастью, человеческое существо настолько способно подчиняться другим, что оно может стать жертвой любого, кто делает вид, будто обладает некими особыми силами. Слишком у многих людей вошло в привычку принимать авторитеты на веру. Публика сама желает, чтобы ее дурачили. Она готова поверить любым россказням, не проверяя их фактическую сторону. Такая деятельность не привнесет в жизнь общества никакого порядка, а будет лишь снова и снова приводить к бунту обманутых. Ни один эстрадный гипнотизер не пользовался успехом сколько-нибудь длительное время. Зачастую они встречали какой-нибудь так называемый объект, который их морочил. Порой это случалось даже с выдающимися учеными, пытавшимися продемонстрировать свои способности. Другие случаи представляют собой любопытную смесь правды и лжи: объект оказывался, если можно так выразиться, обманутым обманщиком: отчасти он дурачил гипнотизера, но тем не менее подпадал под его волю. Главная движущая сила здесь — это всегда не воля гипнотизера, а готовность объекта подчиниться влиянию гипнотизера. На объект не влияет никакая магическая сила, разве что способность гипнотизера притворяться. Всякий, кто привык в жизни опираться на разум, кто принимает решения самостоятельно, кто не исполняет, не рассуждая, чьи бы то ни было распоряжения, не сможет быть загипнотизирован, а следовательно, не сможет и проявлять каких-либо телепатических способностей. Гипноз и телепатия — это лишь проявления рабского послушания.
В связи с этим мы должны также остановиться на внушении. Суть внушения лучше всего можно понять, если мы включим его в категорию впечатлений и раздражителей. Само собой разумеется, что никто из людей не находится под воздействием раздражителей лишь время от времени. Все мы постоянно испытываем влияние бесчисленных раздражителей, поступающих из внешнего мира. Кроме того, мы не просто воспринимаем эти раздражители; каждый из них оказывает на нас какое-то воздействие. Будучи однажды испытанным, впечатление продолжает воздействовать на нас. Когда впечатление принимает вид требований и просьб другого человека, его доводов и попыток в чем-то нас убедить, мы называем это внушением. В данном случае происходит либо перемена, либо подкрепление убеждений, уже имевшихся у человека, который получает внушение. Более серьезная проблема заключена в том, что люди реагируют на поступающие из внешнего мира раздражители по-разному. Степень восприимчивости индивидуума к посторонним влияниям напрямую связана со степенью его независимости.
В этой связи нам следует помнить, что существуют два типа людей. Одни всегда преувеличивают вескость чужих мнений и, следовательно, недооценивают свои, независимо от того, правы они или нет. Такие индивидуумы исключительно восприимчивы к внушению или гипнозу. Второй тип воспринимает любой раздражитель или внушение как личное оскорбление. Есть индивидуумы, которые полагают, что только их мнение правильно. Им безразлично, так ли это на самом деле или нет. Они игнорируют любое мнение, высказанное другими. Оба этих типа людей бессознательно ощущают свою слабость. У первых эта слабость выражена в форме подчинения, у вторых — в неспособности прислушиваться к чужим мнениям. Люди этой категории обычно очень агрессивны, хотя могут гордиться своей готовностью выслушать других. Однако они говорят об этой своей готовности и благоразумии лишь для того, чтобы укрепиться в своем обособлении; на самом деле они абсолютно лишены терпимости, и повлиять на них очень сложно.

http://vk.com/schtora
http://vk.com/partnerkipro
SITEMAP
Понять психологию и природу человека
Гнев - Как правильно себя вести
Сладости в питании ребенка.
Для кого все это делается?
Что вызывает психозы?
Импотенция излечима!
ПМС можно избежать с помощью правильной диеты
Правильный хлеб
Избавляемся от папиллом
Мужская психология
Введение
Как уснуть чтобы проснуться отдохнувшим. Лучшие позы для сна
Главные женские ошибки в постели
О чем думает новорожденный?
Выводим токсины
Самые вредные привычки «трудоголиков»
Пища для ума
Половое бессилие - мужская проблема №1
Различные виды психозов
Проблемы мужского здоровья: эректильная дисфункция у мужчин
Омолаживающая гимнастика для лица за 6 секунд
Улучшить потенцию
Как люди выражают свои стремления?
Что вызывает неврозы
Как улучшить и укрепить память. Законы памяти
Психологическая сущность совести
Смехотерапия
Проблемы импотенции: мифы и реальность
Хочется шоколада? Съешь орех!
Гарциния камбоджская - снизит массу тела

Разделение психической личности
2014-07-14 10:45:00 (читать в оригинале)Что вызывает психозы?
Психология бессознательного
Как работает человек
Проблемы импотенции: мифы и реальность
Отношения с собой
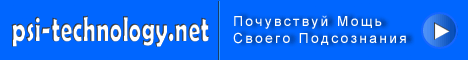
Уважаемые дамы и господа! Я знаю, что в своих взаимоотношениях с лицами или вещами вы сами определяете, что является исходным пунктом. Так было и с психоанализом: для развития, которое он получил, для отклика, который он нашел, было небезразлично, что начал он с работы над симптомом, самым чуждым для Я элементом, который имеется в душе. Симптом происходит от вытесненного, являясь одновременно его представителем перед Я, но вытесненное для Я – это чужая страна, внутренняя заграница, так же как реальность – разрешите такое необычное выражение – заграница внешняя. От симптома путь лежал к бессознательному, к жизни влечений, к сексуальности, и это было время, когда против психоанализа выдвигались глубокомысленные возражения, что человек – существо не только сексуальное, он знаком и с более благородными и более высокими порывами. Можно было бы добавить, что, вдохновленный сознанием этих высоких порывов, он нередко позволяет себе несуразные мысли и игнорирование фактов.
Вам лучше знать, что с самого начала у нас считалось: человек страдает от конфликта между требованиями жизни влечений и сопротивлением, которое поднимается в нем против них, и мы ни на миг не забывали об этой сопротивляющейся, отклоняющей, вытесняющей инстанции, которая, как мы полагали, обладает своими особыми силами, стремлениями Я, и которая совпадает с Я популярной психологии. Только ведь при всех трудных успехах научной работы и психоанализу не под силу было одновременно изучать все области и высказывать суждение сразу по всем проблемам. Наконец, дело дошло до того, что мы смогли направить свое внимание с вытесненного на вытесняющее и встали перед этим Я, казавшимся таким само собой разумеющимся, в твердой уверенности и здесь встретить вещи, к которым мы могли быть не подготовлены; однако было нелегко найти первый подход. Вот об этом-то я и хочу с вами сегодня побеседовать!
Предполагаю, однако, что это мое изложение психологии Я подействует на вас иначе, чем введение в психическую преисподнюю, которое ему предшествовало. Почему это так, с точностью сказать не могу. Как казалось мне сначала, вы подумаете, что ранее я сообщал вам факты, пусть даже непривычные и своеобразные, тогда как теперь вы услышите преимущественно мнения, т. е. умозрительные рассуждения. Но это не так; получше все взвесив, я должен сказать, что удельный вес мыслительной обработки фактического материала в нашей психологии Я ненамного больше, чем в психологии неврозов. Другие обоснования своего предположения я тоже вынужден был отбросить; теперь я считаю, что каким-то образом это кроется в характере самого материала и в непривычности нашего обращения с ним. Все же я не удивлюсь, если в своем суждении вы проявите еще больше сдержанности и осторожности, чем до сих пор.
Ситуация, в которой мы находимся в начале нашего исследования, сама должна указать нам путь. Мы хотим сделать предметом этого исследования Я, наше наисобственнейшее Я. Но возможно ли это? Ведь Я является самым подлинным субъектом, как же оно может стать объектом? И все-таки, несомненно, это возможно. Я может взять себя в качестве объекта, обращаться с собой, как с прочими объектами, наблюдать себя, критиковать и бог знает что еще с самим собой делать. При этом одна часть Я противопоставляет себя остальному Я. Итак, Я расчленимо, оно расчленяется в некоторых своих функциях, по крайней мере, на время. Части могут затем снова объединиться. Само по себе это не ново, возможно, непривычный взгляд на общеизвестные вещи. С другой стороны, нам знакома точка зрения, что патология своими преувеличениями и огрублениями может обратить наше внимание на нормальные отношения, которые без этого ускользнули бы от нас. Там, где она обнаруживает слом и срыв, в нормальном состоянии может иметь место расчленение. Если мы бросим кристалл на землю, он разобьется, но не произвольно, а распадется по направлениям своих трещин на куски, грани которых, хотя и невидимо, все-таки предопределены структурой кристалла. Такими растрескавшимися и расколовшимися структурами являются душевнобольные. И мы не можем им отказать в чем-то вроде почтительного страха, который испытывали древние народы перед сумасшедшими. Они отвернулись от внешней реальности, но именно поэтому они больше знают о внутренней, психической реальности и могут нам кое-что выдать, что было бы нам иначе недоступно. Об одной группе таких больных мы говорим, что они страдают бредом наблюдения (Beobachtugswahn). Они жалуются нам, что постоянно и вплоть до самых интимных отправлений находятся под удручающим наблюдением неизвестных сил, вероятно все-таки лиц, и в галлюцинациях слышат, как эти лица объявляют о результатах своих наблюдений: "Сейчас он хочет сказать это, вот он одевается, чтобы выйти, и т. д." Это наблюдение – еще не то же самое, что преследование, но близко к нему, оно предполагает, что больному не доверяют, ждут, как бы застать его за запретными действиями, за которые его должны наказать. Что было бы, если бы эти сумасшедшие были правы, если бы у нас у всех была такая наблюдающая и угрожающая наказанием инстанция в Я, которая у них лишь резко отделена от Я и по ошибке смещена во внешнюю реальность?
Не знаю, произойдет ли с вами то все, что и со мной. Но с тех пор, как под сильным впечатлением этой картины болезни мною овладела идея, что отделение наблюдающей инстанции от остального Я может быть в структуре Я закономерной чертой, она меня не оставляет, и я вынужден был заняться изучением и других характерных особенностей и отношений этой отделенной таким образом инстанции. Вскоре был сделан следующий шаг. Уже содержание бреда наблюдения намекает на то, что наблюдение является лишь подготовкой к суду и наказанию, и, таким образом, мы узнаем, что у этой инстанции есть другая функция, которую мы называем своей совестью. Вряд ли в нас найдется что-либо другое, что мы бы так постоянно отделяли от своего Я и так легко противопоставляли ему, как совесть. Я чувствую склонность что-то сделать, что обещает мне наслаждение, но отказываюсь от этого на основании того, что совесть мне этого не позволяет. Или, поддавшись чрезмерному желанию наслаждения, я делаю что-то, против чего поднимается голос совести, и после проступка моя совесть наказывает меня упреками стыда, заставляет раскаиваться за него. Я мог бы сказать просто, что особая инстанция, которую я начинаю различать в Я, является совестью, но более осторожным было бы считать эту инстанцию самостоятельной и предположить, что совесть является одной из ее функций, а самонаблюдение, необходимое как предпосылка судебной деятельности совести, является
другой ее функцией. А так как, признавая самостоятельное существование какой-либо вещи, нужно дать ей имя, я буду отныне называть эту инстанцию в Я "Сверх-Я".
А теперь жду от вас иронического вопроса: не сводится ли эта ваша психология Я вообще к тому, чтобы буквально понимать общеупотребительные абстракции, превращая их из понятий в предметы, многого не выигрывая этим? Отвечу: в психологии Я трудно будет избежать общеизвестного, здесь речь будет идти, скорее, о новых точках зрения и систематизациях, чем о новых открытиях. Так что оставайтесь пока при своем уничтожающем критическом мнении и подождите дальнейших рассуждений. Факты патологии дают нашим исследованиям фон, который вы напрасно искали бы в популярной психологии. Далее. Едва мы примирились с идеей такого Сверх-Я, которое пользуется известной самостоятельностью, преследует собственные намерения и в своем обладании энергией независимо от Я, как перед нами неизбежно встает картина болезни, в которой со всей ясностью обнаруживается строгость, даже жестокость этой инстанции и изменения ее отношения Я. Я имею в виду состояние меланхолии, вернее, приступа меланхолии, о котором и вы тоже достаточно много слышали, даже если вы не психиатры. При этом недуге, о причинах и механизмах которого мы слишком мало знаем, наиболее яркой чертой является способ обращения Сверх-Я – про себя вы можете сказать: совести – с Я. В то время как меланхолик в здоровом состоянии может быть более или менее строг к себе, как любой другой, в приступе меланхолии Сверх-Я становится сверхстрогим, ругает, унижает, истязает бедное Я, заставляет его ожидать самых строгих наказаний, упрекает его за давно содеянное, которое в свое время воспринималось легко, как будто оно все это время собирало обвинения и только выжидало своего теперешнего прилива сил, чтобы выступить с ними и вынести приговор на основании этих обвинений. Сверх-Я предъявляет самые строгие моральные требования к отданному в его распоряжение беспомощному Я, оно вообще представляет собой требования морали, и мы сразу понимаем, что наше моральное чувство вины есть выражение напряжения между Я и Сверх-Я. Это весьма примечательный результат наблюдения: мораль, данная нам якобы от бога и пустившая столь глубокие корни, выступает [у таких пациентов] как периодическое явление. Потому что через определенное количество месяцев все моральное наваждение проходит, критика Сверх-Я умолкает, Я реабилитируется и вновь пользуется всеми человеческими правами вплоть до следующего приступа. Правда, при некоторых формах заболевания в промежутках происходит нечто противоположное: Я находится в состоянии блаженного опьянения, оно торжествует, как будто Сверх-Я утратило всякую силу ж слилось с Я, и это ставшее свободным, маниакальное Я позволяет себе действительно безудержное удовлетворение всех своих прихотей. Процессы, полные нерешенных загадок!
Вы ждете, конечно, больше, чем простой иллюстрации, услышав от меня, что мы кое-что знаем об образовании Сверх-Я, т. е. о возникновении совести. Основываясь на известном высказывании Канта, сравнившего нашу совесть со звездным небом, набожный человек мог бы, пожалуй, почувствовать искушение почесть оба их за прекрасные создания творца. Небесные тела, конечно, великолепны, но что касается совести, то здесь бог поработал не столь много и небрежно, потому что подавляющее большинство людей получило ее лишь в скромных размерах или в столь малой степени, что об этом не стоит и говорить. Мы ни в коей мере не отрицаем ту часть психологической истины, которая содержится в утверждении, что совесть – божественного происхождения, но это положение требует разъяснения. Если совесть тоже является чем-то "в нас", то это ведь не изначально. Это – полная противоположность сексуальной жизни, которая действительно была с самого начала жизни, а не добавилась лишь впоследствии. Но маленький ребенок, как известно, аморален, у него нет внутренних тормозов против стремлений к удовольствию. Роль, которую позднее берет на себя Сверх-Я, исполняется сначала внешней силой, родительским авторитетом. Родительское влияние на ребенка основано на проявлениях знаков любви и угрозах наказаниями, которые доказывают ребенку утрату любви и сами по себе должны вызывать страх. Этот реальный страх является предшественником более позднего страха совести: пока он царит, нет нужды говорить о Сверх-Я и о совести. Только впоследствии образуется вторичная ситуация, которую мы слишком охотно принимаем за нормальную, когда внешнее сдерживание уходит вовнутрь, когда на место родительской инстанции появляется Сверх-Я, которое точно так же наблюдает за Я, руководит им и угрожает ему, как раньше это делали родители в отношении ребенка.
Сверх-Я, которое, таким образом, берет на себя власть, работу и даже методы родительской инстанции, является не только ее преемником, но и действительно законным прямым наследником. Оно и выходит прямо из нее, и мы скоро узнаем, каким путем. Но сначала остановимся на рассогласовании между ними. Кажется, что Сверх-Я односторонне перенимает лишь твердость и строгость родителей, их запрещающую и наказывающую функцию, в то время как их исполненная любви забота не находит места и продолжения. Если родители действительно придерживались строгого воспитания, то кажется вполне понятным, если и у ребенка развивается строгое Сверх-Я, однако против ожидания опыт показывает, что Сверх-Я может быть таким же неумолимо строгим, даже если воспитание было мягким и добрым, если угроз и наказаний по возможности избегали. Позднее мы вернемся к этому противоречию, когда будем говорить о превращениях влечений при образовании Сверх-Я.
О превращении родительского отношения в Сверх-Я я не могу сказать вам так, как хотелось бы, отчасти потому, что этот процесс так запутан, что его изложение не уместится в рамки введения, которое я хочу вам дать, а с другой стороны, потому, что мы сами не уверены, что полностью его поняли. Поэтому довольствуйтесь следующими разъяснениями. Основой этого процесса является так называемая идентификация (Identifiziегung), т. е. уподобление Я чужому Я, вследствие чего первое Я в определенных отношениях ведет себя как другое, подражает ему, принимает его в известной степени в себя. Идентификацию не без успеха можно сравнить с оральным, каннибалистическим поглощением чужой личности. Идентификация – очень важная форма связи с другим лицом, вероятно, самая первоначальная, но не то же самое, что выбор объекта. Различие можно выразить примерно так: если мальчик идентифицирует себя с отцом, то он хочет быть, как отец; если он делает его объектом своего выбора, то он хочет обладать, владеть им; в первом случае его Я меняется по образу отца, во втором это не необходимо. Идентификация и выбор объекта в широком смысле независимы друг от друга; но можно идентифицировать себя именно с этим лицом, изменять Я в соответствии с ним, выбрав его, например, в качестве сексуального объекта. Говорят, что влияние сексуального объекта на Я особенно часто происходит у женщин и характерно для женственности. о наиболее поучительном отношении между идентификацией и выбором объекта я уже как-то говорил вам в предыдущих лекциях. Его легко наблюдать как у детей, так и у взрослых, как у нормальных, так и у больных людей. Если объект утрачен или от него вынуждены отказаться, то достаточно часто потерю возмещают тем, что идентифицируют себя с ним, восстанавливая в своем Я, так что здесь выбор объекта как бы регрессирует к идентификации.
Этими рассуждениями об идентификации я сам не вполне удовлетворен, но мне будет достаточно, если вы сможете признать, что введение в действие Сверх-Я может быть описано как удачный случай идентификации с родительской инстанцией. Решающим фактом для этой точки зрения является то, что это новообразование превосходящей инстанции в Я теснейшим образом связано с судьбой Эдипова комплекса, так что Сверх-Я является наследием этой столь значимой для детства эмоциональной связи. Мы понимаем, что с устранением Эдипова комплекса ребенок должен отказаться от интенсивной привязанности к объектам, которыми были его родители, а для компенсации этой утраты объектов в его Я очень усиливаются вероятно давно имевшиеся идентификации с родителями. Такие идентификации, как следствия отказа от привязанности к объектам, позднее достаточно часто повторяются в жизни ребенка, но эмоциональной ценности этого первого случая такой замены вполне соответствует то, что в результате этого в Я создается особое положение. Тщательное исследование показывает нам также, что Сверх-Я теряет в силе и завершенности развития, если преодоление Эдипова комплекса удается лишь отчасти. В процессе развития на Сверх-Я влияют также те лица, которые заместили родителей, т. е. воспитатели, учителя, идеальные примеры. Обычно оно все больше отдаляется от первоначальных индивидуальностей родителей, становясь, так сказать, все более безличностным. Но нельзя также забывать, что ребенок по-разному оценивает своих родителей на разных этапах жизни. К тому времени, когда Эдипов комплекс уступает место Сверх-Я, они являют собой нечто совершенно замечательное, утрачивая очень многое впоследствии. И тогда тоже происходят идентификации с этими более поздними родителями, они даже обычно способствуют формированию характера, но это касается только Я, на Сверх-Я, которое было сформировано более ранним образом родителей, они уже не влияют.
Надеюсь, у вас уже сложилось впечатление, что понятие Сверх-Я описывает действительно структурное соотношение, а не просто персонифицирует абстракцию наподобие совести. Мы должны упомянуть еще одну важную функцию, которой мы наделяем это Сверх-Я. Оно является также носителем Я-идеала, с которым Я соизмеряет себя, к которому оно стремится, чье требование постоянного совершенствования оно старается выполнить. Несомненно, этот Я-идеал является отражением старого представления о родителях, выражением восхищения их совершенством, которое ребенок им тогда приписывал.
Знаю, что вы много слышали о чувстве неполноценности, которое характеризует как раз невротиков. Оно проявляется, в частности, в так называемой художественной литературе. Писатель, употребивший словосочетание "комплекс неполноценности", считает, что этим он удовлетворяет всем требованиям психоанализа и поднимает свое творение на более высокий психологический уровень. В действительности искусственное словосочетание "комплекс неполноценности" в психоанализе почти не употребляется. Он не является для нас чем-то простым, тем более элементарным. Сводить его к самовосприятию возможного недоразвития органов, как это любят делать представители школы так называемой индивидуальной психологии, кажется нам недальновидным заблуждением. Чувство неполноценности имеет глубоко эротические корни. Ребенок чувствует себя неполноценным, если замечает, что он нелюбим, и точно так же взрослый. Единственный орган, который может рассматриваться как неполноценный, это рудиментарный пенис, клитор девочки. Но до большей части чувство неполноценности происходит из отношения Я к своему Сверх-Я, являясь, так же как чувство вины, выражением напряжения между ними. Чувство неполноценности и чувство вины вообще трудно отделить друг от друга. Возможно, было бы правильно видеть в первом эротическое дополнение к чувству моральной неполноценности. Этому вопросу разграничения понятий мы в психоанализе уделяли мало внимания.
Именно потому, что комплекс неполноценности стал так популярен, я позволю себе сделать здесь небольшое отступление. У одного исторического деятеля нашего времени, который здравствует и поныне, но отошел от дел, вследствие родовой травмы имело место некоторое недоразвитие одного члена. Очень известный писатель наших дней, охотнее всего пишущий биографии замечательных людей, занялся жизнью этого упомянутого мной человека. Но ведь трудно подавить в себе потребность углубления в психологию, когда пишешь биографию. Поэтому наш автор отважился на попытку построить все развитие характера своего героя на чувстве неполноценности, вызванном этим физическим дефектом. Но при этом он упустил один маленький, но немаловажный факт, Обычно матери, которым судьба дала больного или неполноценного ребенка, пытаются восполнить эту несправедливость чрезмерной любовью. В нашем случае гордая мать повела себя по-другому, она отказала ребенку в любви из-за его недостатка. Когда он стал могущественным человеком, то всеми своими действиями доказал, что так никогда и не простил свою мать. Если вы представите себе значение материнской любви для детской душевной жизни, вы, видимо, мысленно внесете поправки в теорию неполноценности биографа.
Но вернемся к Сверх-Я. Мы наделили его самонаблюдением, совестью и функцией идеала. Из наших рассуждений о его возникновении получается, что оно обусловлено чрезвычайно важным биологическим, а также определяющим судьбу психологическим фактом, а именно длительной зависимостью ребенка от своих родителей и Эдиповым комплексом, которые опять-таки внутренне связаны между собой. Сверх-Я является для нас представителем всех моральных ограничений, поборником стремления к совершенствованию, короче, тем, что нам стало психологически доступно из так называемого более возвышенного в человеческой жизни. Поскольку оно само восходит к влиянию родителей, воспитателей и им подобных, мы узнаем еще больше о его значении, если обратимся к этим его источникам. Как правило, родители и аналогичные им авторитеты в воспитании ребенка следуют предписаниям собственного Сверх-Я. Как бы ни расходилось их Я со Сверх-Я, в воспитании ребенка они строги и взыскательны. Они забыли трудности своего собственного детства, довольны, что могут наконец полностью идентифицировать себя со своими родителями, которые в свое время налагали на них тяжелые ограничения. Таким образом, Сверх-Я ребенка строится собственно не по примеру родителей, а по родительскому Сверх-Я; оно наполняется тем же содержанием, становится носителем традиции, всех тех сохранившихся во времени ценностей, которые продолжают существовать на этом пути через поколения. Вы легко угадаете, какую важную помощь для понимания социального поведения человека, например, для понимания беспризорности, или даже практические советы по воспитанию можно извлечь из представления о Сверх-Я. Видимо, так называемые материалистические воззрения на историю грешат недооценкой этого фактора. Они отделываются от него замечанием, что "идеологии" людей суть не что иное, как результат и надстройка действующих экономических отношений. Это правда, но очень вероятно – не вся правда. Человечество никогда не живет полностью в настоящем, в идеологиях Сверх-Я продолжает жить прошлое, традиция расы и народа, которые лишь медленно поддаются влияниям современности, новым изменениям, и, пока оно действует через Сверх-Я, оно играет значительную, независимую от экономических отношений роль в человеческой жизни.
В 1921 г. при изучении психологии масс я попытался использовать дифференциацию Я и Сверх-Я. Я пришел к формуле: "Психологическая масса является объединением отдельных личностей, которые ввели в свое Сверх-Я одно и то же лицо и на основе этой общности идентифицировались друг с другом в своем Я". Она относится, конечно, только к тем массам, которые имеют одного вождя. Если бы у нас было больше примеров такого рода, то предположение Сверх-Я перестало бы быть совершенно чуждым для нас и мы совсем освободились бы от той робости, которая все еще охватывает нас, привыкших к атмосфере преисподней,. при продвижении на более поверхностные, более высокие слои психического аппарата. Разумеется, мы не думаем, что, выделяя Сверх-Я, мы говорим последнее слово в психологии Я. Это скорее начало, с той лишь разницей, что тут не только начало трудно.
Ну а теперь нас ждет другая задача, так сказать, с другой стороны Я. Она возникла благодаря наблюдению во время аналитической работы, наблюдению, собственно говоря, очень старому. Как уже не раз бывало, им давно пользовались, прежде чем решились признать. Как вы знаете, вся психоаналитическая теория, собственно, построена на признании сопротивления, которое оказывает нам пациент при попытке сделать сознательным его бессознательное. Объективным признаком сопротивления является то, что его ассоциативные мысли остаются необъяснимыми или далеко уклоняются от обсуждаемой темы. Субъективно он может и признавать сопротивление, потому что испытывает ощущение стыда, приближаясь к теме. Но этот последний признак может и отсутствовать. Тогда мы говорим пациенту, что из его отношения мы заключаем, что он находится сейчас в состоянии сопротивления, а он отвечает, что ничего об этом не знает и замечает только затруднения [в появлении] ассоциативных мыслей. Обнаруживается, что мы были правы, но тогда его сопротивление было тоже бессознательным, таким же бессознательным, как и вытесненное (Verdrangte), над устранением которого мы работали. Следовало бы давно поставить вопрос: из какой части его душевной жизни исходит такое бессознательное сопротивление? Новичок в психоанализе быстро найдет ответ: это и есть сопротивление бессознательного. Двусмысленный, неприемлемый ответ! Если под этим подразумевается, что он исходит из вытесненного, то мы должны сказать: это не так! Вытесненному мы скорее припишем сильный импульс, стремление пробиться к сознанию. Сопротивление может быть только выражением Я, которое в свое время осуществило вытеснение, а теперь хочет его сохранить. Так мы всегда и понимали это раньше. С тех пор как мы предполагаем в Я особую инстанцию, представляющую ограничивающие и отклоняющие требования, Сверх-Я, мы можем сказать, что вытеснение является делом этого Сверх-Я, оно проводит вытеснение или само, или по его заданию это делает послушное ему Я. И вот если налицо случай, когда сопротивление при анализе пациентом не осознается, то это значит, что либо Сверх-Я и Я в очень важных ситуациях могут работать бессознательно, либо, что было бы еще значительнее, что некоторые части того и другого, Я и самого Сверх-Я, являются бессознательными. В обоих случаях мы вынуждены прийти к неутешительному выводу, что Сверх-Я и сознательное, с одной стороны, и вытесненное и бессознательное – с другой, ни в коем случае не совпадают.
Уважаемые дамы и господа! Видимо, надо сделать передышку, против чего и вы тоже не будете возражать, но, прежде чем я продолжу, выслушайте мои извинения. Хочу сделать дополнения к введению в психоанализ, которое я начал пятнадцать лет тому назад, и вынужден вести себя так, будто и вы в этот промежуток времени не занимались ничем иным, кроме психоанализа. Я знаю, что это невероятное предположение, но я беспомощен, я не могу поступить иначе. И связано это с тем, что вообще очень трудно познакомить с психоанализом того, кто сам не является психоаналитиком. Поверьте, мы не хотим произвести впечатление, будто мы члены тайного общества и занимаемся какой-то тайной наукой. И все же мы должны признать и объявить своим убеждением, что никто не имеет права вмешиваться в разговор о психоанализе, не овладев определенным опытом, который можно получить только при анализе своей собственной личности. Когда я читал вам лекции пятнадцать лет тому назад, я пытался не обременять вас некоторыми умозрительными моментами нашей теории, но именно с ними связаны новые данные, о которых я хочу сказать сегодня.
Возвращаюсь к теме. Свое сомнение, могут ли Я или даже Сверх-Я быть бессознательными или они только способны осуществлять бессознательные действия, мы с полным основанием решаем в пользу первой возможности. Да, значительные части Я и Сверх-Я могут оставаться бессознательными, обычно являются бессознательными. Это значит, что личность ничего не знает об их содержании и ей требуется усилие, чтобы сделать их для себя сознательными. Бывает, что Я и сознательное, вытесненное и бессознательное не совпадают. Мы испытываем потребность основательно пересмотреть свой подход к проблеме сознательное – бессознательное. Сначала мы были склонны значительно снизить значимость критерия сознательности, поскольку он оказался столь ненадежным. Но мы поступили бы несправедливо. Здесь дело обстоит так же, как с нашей жизнью: она не многого стоит, но это все, что у нас есть. Без света этого качества сознания мы бы затерялись в потемках глубинной психологии; но мы имеем право попытаться сориентировать себя по-новому.
То, что должно называться сознательным, не нуждается в обсуждении, здесь нет никаких сомнений. Самое старое и самое лучшее значение слова "бессознательный" – описательное: бессознательным мы называем психический процесс, существование которого мы должны предположить, поскольку мы выводим его из его воздействий, ничего не зная о нем. Далее, мы имеем к нему такое же отношение, как и к психическому процессу другого человека, только он-то является нашим собственным. Если выразиться еще конкретнее, то следует изменить предложение следующим образом: мы называем процесс бессознательным, когда мы предполагаем, что он активизировался сейчас, хотя сейчас мы ничего о нем не знаем. Это ограничение заставляет задуматься о том, что большинство сознательных процессов сознательны только короткое время; очень скоро они становятся латентными, но легко могут вновь стать сознательными. Мы могли бы также сказать, что они стали бессознательными, если бы вообще были уверены, что в состоянии латентности они являются еще чем-то психическим. Таким образом мы не узнали бы ничего нового и даже не получили бы права ввести понятие бессознательного в психологию. Но вот появляется новый опыт, который мы уже можем продемонстрировать на [примере] ошибочных действий. Например, для объяснения какой-то оговорки мы вынуждены предположить, что у допустившего ее образовалось определенное речевое намерение. По происшедшей ошибке в речи мы со всей определенностью догадываемся о нем, но оно не осуществилось, т. е. оно было бессознательным. Если мы по прошествии какого-то времени приводим его говорившему и тот сможет признать его знакомым, то, значит, оно было бессознательным лишь какое-то время, если же он будет отрицать его как чуждое ему, то, значит, оно длительное время было бессознательным. Возвращаясь к сказанному, из этого опыта мы получаем право объявить бессознательным и то, что называется латентным. Учитывая эти динамические отношения, мы можем теперь выделить два вида бессознательного: одно, которое при часто повторяющихся условиях легко превращается в сознательное, и другое, при котором это превращение происходит с трудом и лишь со значительными усилиями, а может и никогда не произойти. Чтобы избежать двусмысленности, имеем ли мы в виду одно или другое бессознательное, употребляем ли слово в описательном или и динамическом смысле, договоримся применять дозволенный, простой паллиатив. То бессознательное, которое является только латентным и легко становится сознательным, мы назовем предсознательным, другому же оставим название "бессознательный". Итак, у нас три термина: сознательный, предсознательный и бессознательный, которых достаточно для описания психических феноменов. Еще раз: чисто описательно и предсознательное бессознательно, но мы так его не называем, разве что в свободном изложении, если нам нужно защитить существование бессознательных процессов вообще в душевной жизни.
Надеюсь, вы признаете, что это пока не так уж сложно и вполне пригодно для употребления. Да, но, к сожалению, психоаналитическая работа настойчиво требует употребления слова "бессознательный" еще и в другом, третьем смысле, и это, возможно, и вносит путаницу. Под новым и сильным влиянием того, что обширная и важная область душевной жизни обычно скрыта от знания Я, так что протекающие в ней процессы следует признать бессознательными в правильном динамическом смысле, мы понимаем термин "бессознательный" также и в топическом или систематическом смысле, говоря о системе предсознательного и бессознательного, о конфликте Я с системой бессознательного (ubw), все больше придавая слову скорее смысл области души, чем качества психики. Явно неудобное открытие, согласно которому даже части Я и Сверх-Я в динамическом отношении бессознательны, мы воспринимаем здесь как облегчение, ибо оно позволяет нам устранить осложнение. Мы видим, что не имеем права называть чуждую Я область души системой ubw, так как неосознанность не является исключительно ее характеристикой. Хорошо, не будем больше употреблять слово "бессознательный" в систематическом смысле, дав прежнему обозначению лучшее, не допускающее неправильного толкования название. Вслед за Ницше и по примеру Г. Гроддека (1923) мы будем называть его в дальнейшем Оно (Еs). Это безличное местоимение кажется особенно подходящим для выражения основного характера этой области души, ее чуждости Я. Сверх-Я, Я и Оно – вот три царства, сферы, области, на которые мы разложим психический аппарат личности, взаимодействиями которых мы займемся в дальнейшем.
Но прежде только одна короткая вставка. Догадываюсь, что вы недовольны тем, что три качества сознательного и три сферы психического аппарата не сочетаются в три мирно согласующиеся пары, видя в этом нечто омрачающее наши результаты. Однако, по-моему, сожалеть об этом не стоит, и мы должны сказать себе, что не имеем права ожидать такого приглаженного упорядочивания. Позвольте привести сравнение, правда, сравнения ничего не решают, но они могут способствовать наглядности. Представьте себе страну с разнообразным рельефом – холмами, равниной и цепями озер, со смешанным населением – в ней живут немцы, мадьяры и словаки, которые занимаются различной деятельностью. И вот распределение могло бы быть таким: на холмах живут немцы, они скотоводы, на равнине – мадьяры, которые выращивают хлеб и виноград, на озерах – словаки, они ловят рыбу и плетут тростник. Если бы это распределение было безукоризненным и четким, то Вильсон мог бы ему порадоваться, это было бы также удобно для сообщения на уроке географии. Однако очевидно, что, путешествуя по этой стране, вы найдете здесь меньше порядка и больше пестроты. Немцы, мадьяры и словаки всюду живут вперемешку, на холмах тоже есть пашни, на равнине также держат скот. Кое-что, естественно, совпадет с вашими ожиданиями, т. е. в горах не занимаются рыболовством, а виноград не растет в воде. Да, картина местности, которую вы представили себе, в общем и целом будет соответствовать действительности, в частностях же вы допустите отклонения.
Не ждите, что об Оно, кроме нового названия, я сообщу вам много нового. Это темная, недоступная часть нашей личности; то немногое, что вам о ней известно, мы узнали, изучая работу сновидения и образование невротических симптомов, и большинство этих сведений носят негативный характер, допуская описание только в качестве противоположности Я. Мы приближаемся к [пониманию] Оно при помощи сравнения, называя его хаосом, котлом, полным бурлящих возбуждений. Мы представляем себе, что у своего предела оно открыто соматическому, вбирая оттуда в себя инстинктивные потребности, которые находят в нем свое психическое выражение, но мы не можем сказать, в каком субстрате. Благодаря влечениям оно наполняется энергией, но не имеет организации, не обнаруживает общей воли, а только стремление удовлетворить инстинктивные потребности при сохранении принципа удовольствия. Для процессов в Оно не существует логических законов мышления, прежде всего тезиса о противоречии. Противоположные импульсы существуют друг подле друга, не отменяя друг друга и не удаляясь друг от друга, в лучшем случае для разрядки энергии под давлением экономического принуждения объединяясь в компромиссные образования. В Оно нет ничего, что можно было бы отождествить с отрицанием, и мы с удивлением видим также исключение из известного философского положения, что пространство и время являются необходимыми формами наших психических актов. В Оно нет ничего, что соответствовало бы представлению о времени, никакого признания течения во времени и, что в высшей степени странно и ждет своего объяснения философами, нет никакого изменения психического процесса с течением времени. Импульсивные желания, которые никогда не переступают через Оно, а также впечатления, которые благодаря вытеснению опустились в Оно, виртуально бессмертны, спустя десятилетия они ведут себя так, словно возникли заново. Признать в них прошлое, суметь обесценить их и лишить заряда энергии можно только в том случае, если путем аналитической работы они станут осознанными, и на этом в немалой степени основывается терапевтическое действие аналитического лечения.
У меня все время создается впечатление, что из этого не подлежащего сомнению факта неизменности вытесненного во времени мы мало что дали для нашей теории. А ведь здесь, кажется, открывается подход к самому глубокому пониманию. К сожалению, и я не продвинулся здесь дальше.
Само собой разумеется, Оно не знакомы никакие оценки, никакое добро и зло, никакая мораль. Экономический или, если хотите, количественный момент, тесно связанный с принципом удовольствия, упра
Психология бессознательного
2014-07-10 10:45:00 (читать в оригинале)Как люди выражают свои стремления?
Хочется шоколада? Съешь орех!
Фобии
Смехотерапия
Как уснуть чтобы проснуться отдохнувшим. Лучшие позы для сна
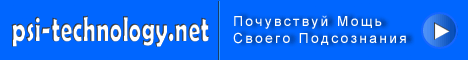
Юнг К.-Г.
Здесь начинается еще один новый этап нашего познавательного процесса. Мы продолжали аналитическое разложение инфантильных фантазий перенесения до тех пор, пока пациенту не стало достаточно ясно, что он сделал из своего врача отца и мать, дядюшку, опекуна и учителя и как бы там еще ни назывались родительские авторитеты. Однако, как вновь и вновь показывает опыт, возникают еще и другие фантазии, представляющие врача даже как Спасителя или как богоподобное существо, – разумеется, в полном противоречии со здравым рассудком сознания. Кроме того, оказывается, что эти божественные атрибуты выходят за рамки христианского мировоззрения, в атмосфере которого мы выросли, и принимают языческие очертания, например нередко образы животных.
Перенесение само по себе есть не что иное, как некоторая проекция бессознательных содержаний. Сначала проецируются так называемые поверхностные содержания бессознательного, о чем можно узнать из снов, симптомов и фантазий. В этом состоянии врач вызывает интерес в качестве возможного любовника (вроде того молодого итальянца из нашей истории). Затем он выступает в большей степени как отец: либо добродушный, либо, скажем, грозный, в соответствии с теми качествами, которыми обладал в глазах пациента его действительный отец. Иногда врач обретает для пациента и материнские черты, что выглядит уже несколько странно, но все же находится в границах возможного. Все эти проекции фантазий имеют своей основой личные воспоминания.
Наконец, могут появиться фантазии, выходящие за границы обычного. Врач наделяется тогда довольно жуткими свойствами, выступая, скажем, в качестве колдуна или демонического преступника или же в качестве олицетворения соответствующего блага: как Спаситель. Или же он выступает как смешение обеих сторон, Разумеется, он вовсе не обязательно предстает сознанию пациента в таком виде, а просто на поверхность выступают фантазии, наделяющие врача такими чертами. Таким пациентам часто очень трудно бывает понять, что фактически их фантазии происходят от них самих и по сути дела не имеют ничего (или имеют очень мало) общего с характером врача. Это заблуждение происходит оттого, что для этого вида проекций отсутствуют личные базисные воспоминания. Можно при случае доказать, что уже в определенном детском возрасте с отцом или матерью были связаны подобные фантазии, для которых, однако, ни отец, ни мать на самом деле не давали повода.
В одной своей небольшой работе Фрейд (Eine Kindheitserinnerung des Leonardo da Vinci, 1910.) показал, какое влияние оказал на Леонардо да Винчи в его дальнейшей жизни тот факт, что у него было две матери. Факт наличия двух матерей, или двоякого происхождения, был в случае Леонардо реальным, однако подобное представление играло свою роль и у других людей искусства. Так, у Бенвенуто Челлини была фантазия о двояком происхождении. Вообще она представляет собой некоторый мифологический мотив. Многие герои имели в сказаниях двух матерей. Фантазия эта имеет своим источником не тот, скажем, действительный факт, что у героев было две матери, а есть общераспространенный, "изначальный" образ, принадлежащий к тайнам истории человеческого духа и не относящийся к сфере личных воспоминаний.
В каждом отдельном человеке помимо личных воспоминаний есть великие "изначальные" образы, как их удачно однажды назвал Якоб Буркхардт, т. е. унаследованные возможности человеческого представления в том его виде, каким оно было издавна. Факт этого наследования объясняет тот по сути дела странный феномен, что известные сказочные образы и мотивы повторяются на всей Земле в одинаковых формах. Он объясняет далее, как, например, наши душевнобольные оказываются в состоянии репродуцировать точно такие же образы и взаимосвязи, которые нам известны из старинных текстов. Некоторые примеры такого рода я дал в моей книге "Трансформации и символы либидо" (Новое издание: Symbole der Wandlung, 1952. Ges. Werke, Bd. 5. ср. также Uber den Begriff des kolektiven Unbewu(ten, 1936 Ges. Wегkе, Bd. 9.). Я тем самым отнюдь не утверждаю, что по наследству передаются представления, по наследству передается лишь возможность представления, а это большая разница.
Итак, на этой следующей стадии лечения, когда воспроизводятся фантазии, уже не основывающиеся на личных воспоминаниях, речь идет о манифестациях более глубокого слоя бессознательного, где дремлют общечеловеческие, изначальные образы. Эти образы и мотивы я назвал архетипами (а также "доминантами") (Это понятие разъясняется в следующих работах, из которых становится ясным и дальнейшее его развитие: Symbole der Wandlung, 1952. Ges. Werke, Bd. 5; Psychologische Typen, 1950, р. 567 ff. Ges. Werke, Bd. 6, Paragr. 759 ff. Ср. в: Von den Wurzeln des Bewu(tseins, 1954, статьи: Uber die Archetypen des kollektiven Unberwu(ten, р. 3 ff. Ueber den Archetypus mit besonderer Berucksi chtigung des Animabegriffes, р. 57 ff. Die Psychologischen Aspekte des MutterArchetypus, р. 87 ff. Ges. Werke, Bd. 9, I. In Kerenyi und Jung, Einfuhrung in das Wesen der Mythologie, Zur Psychologie des Kind-Archetypus, р. 103 ff. Zum psychologischen Aspekt der Kore-Figur, р. 215 ff. Ges. Wеrke, Bd. 9, I. Комментарий к: Wilhelm, Das Geheimnes derг goldenen Blute, 1929. Ges. Werke, Bd. 13).
Это открытие означает дальнейший шаг вперед в развитии нашей концепции, а именно признание наличия двух слоев в бессознательном. Дело в том, что мы должны различать личное бессознательное и не- или сверхличное бессознательное. Последнее мы обозначаем также как коллективное бессознательное (Коллективное бессознательное представляет собой объективно-психологическое, а личное бессознательное – субъективно-психическое.) – именно потому, что оно отделено от личного и является абсолютно всеобщим, и потому, что его содержания могут быть найдены повсюду, чего как раз нельзя сказать о личностных содержаниях. Личное бессознательное содержит утраченные воспоминания, вытесненные (намеренно забытые) тягостные представления, так называемые подпороговые (сублиминальные) восприятия, т. е. – чувственные перцепции, которые были недостаточно – сильны для того, чтобы достичь сознания, и, наконец, содержания, которые еще не созрели для сознания. Оно соответствует часто встречающемуся в сновидениях образу Тени (Под Тенью я понимаю "негативную" часть личности, а именно сумму скрытых, невыгодных свойств, недостаточно развитых функций и содержаний личного бессознательного. Обобщающий обзор см.: Т. Wolff, Einfuhrung in die Grundlagen der komplexen Psychologie. In: Studien zи С. G. Jungs Psychologie, 1959, р. 151 ff.).
Изначальные образы – это наиболее древние и наиболее всеобщие формы представления человечества. Они в равной мере представляют собой как чувство, – так и мысль; они даже имеют нечто подобное собственной, самостоятельной жизни, вроде жизни частичных душ (поводу этого понятия ср.: Allgеmeines zur Komplextheorie, In: Uder tuttgаrt. 1893, р. 213. Brief an psychische Energetik und das Wesen der Traume, 1948. Ges. Werke, Bd. 8.), что мы легко можем видеть в тех философских или гностических системах, которые имеют о своим источником познания восприятие бессознательного. Представление об ангелах, архангелах, "тронах и господствах" у Павла, архонтах у гностиков, небесной иерархии у Дионисия Ареопагита и т. д. происходит из восприятия относительной самостоятельности архетипов.
Итак, тем самым мы нашли также тот объект, который избирает либидо, после того как оно оказывается высвобожденным из личностно-инфантильной формы перенесения. Оно, следуя своему уклону, погружается в глубины бессознательного и оживляет там то, что до сих пор дремало. Оно обнаруживает сокрытый клад, из которого всегда черпало человечество, из которого оно извлекло своих богов и демонов и все те сильнейшие и могущественнейшие идеи, без которых человек перестает быть человеком.
Возьмем, к примеру, одну из величайших мыслей, порожденных XIX веком, – идею сохранения энергии. Подлинным творцом этой идеи является Роберт Майер. Он был врачом, а вовсе не физиком или натурфилософом, хотя выдвижение подобных идей скорее было бы более естественным для последних. Однако важно понять, что идея Майера не создана в собственном смысле. Не возникла она и в результате слияния существовавших тогда представлений или научных гипотез, а выросла в своем творце подобно растению. По этому поводу Майер писал Гризингеру следующее (1844): "Эту теорию я отнюдь не высидел за письменным столом". (Далее он сообщает о некоторых физиологических наблюдениях, которые он сделал в 1840/41 гг. в качестве судового врача.) "Но если вы хотите,- продолжает он в своем письме,- уяснить себе физиологические аспекты, то для этого необходимо знание физических процессов, если вы не предпочитаете рассматривать суть дела с метафизической точки зрения, что внушает мне бесконечное отвращение; я, таким образом, придерживался физики и с такой страстью отдавался своему предмету, что – многие из-за этого могут посмеяться надо мной – мало интересовался далеким материком, а предпочитал оставаться на борту, где я мог работать без перерыва и где в некоторые часы чувствовал себя как бы вдохновленным настолько, что не могу припомнить ничего подобного ни до, ни после. Некоторые мысли, как молнии пронзившие мое сознание – это было на рейде в Сурабайе, я подвергал немедленному тщательному исследованию, что в свою очередь приводило меня к новым предметам. Те времена прошли, однако спокойное размышление над тем, что тогда проявилось во мне, привело к выводу, что это – истина, которую не только можно чувствовать субъективно, но которую также можно объективно доказать; но может ли это сделать столь мало сведущий в физике человек – этот вопрос я, естественно, должен оставить открытым" (Robert Mayer, Kleinere Schriften und Briefе. Stuttgаrt. 1893, р. 213. Brief an Wilhelm Griesinger, 16, Juni, 1844).
В своей "Энергетике" Хельм высказывает ту точку зрения, что "новая мысль Роберта Майера не была извлечена постепенно из традиционных понятий силы в процессе их более глубокого продумывания, а принадлежит к тем интуитивно постигаемым идеям, которые, происходя из других сфер духовного труда, как бы застигают мышление врасплох и принуждают его в соответствии с ними преобразовывать традиционные понятия" (G. F. Helm, Die Energetik nach ihrer geschichtlichen Entwicklung, Leipzig, 1898, р. 20).
Спрашивается: каково происхождение той новой идеи, которая навязала себя сознанию с такой стихий, которая смогла настолько захватить сознание, что полностью отвлекла его от всех многообразных впечатлений первого путешествия по тропикам? На эти вопросы не так-то легко ответить. Но если мы применим к этому случаю нашу теорию, то объяснение будет звучать так: идея энергии и ее сохранения должна быть изначальным образом, который дремал в коллективном бессознательном. Этот вывод требует, естественно, доказательства, что такого рода изначальный образ действительно существовал в истории духа и действовал на протяжении тысячелетий. Это можно и в самом деле доказать без особого труда, Самые примитивные религии в самых различных уголках Земли базируются на этом образе. Это – так называемые динамические религии, единственная и определяющая мысль которых состоит в том, что существует разлитая повсюду магическая сила (Так называемое мана. Ср.: N. Soederblom, Das Werder des Gottesglaubens, 1916.), вокруг которой вращается все. Тайлор, известный английский исследователь, а также Фрейзер неверно понимали эту идею как анимизм, На самом же деле первобытные народы со своим понятием силы отнюдь не имели в виду души или духов, а действительно нечто, что американский исследователь Лавджой (Arthur O. Lovejoy, The Fundamental Concept of the Primite Philosophy in: the Monist, vol. XVI, p. 361.) точно обозначил как "primitive energetics" ("Примитивную психологию" ( англ ). Это понятие соответствует представлениям о душе, духе, боге, здоровье, силе любви, плодородности, силе волшебства, влиянии, власти, авторитете, лекарстве, а также об известных душевных состояниях, характеризующихся аффектами. У некоторых полинезийцев "мулунгу" (именно это примитивное понятие энергии) есть дух, душа, демоническая сущность, волшебная сила, авторитет; и когда происходит что-либо необычное, то люди призывают "мулунгу". Это понятие силы у первобытных народов В ходе истории этот образ получал развитие во все новых и новых вариациях. В Ветхом Завете магическая сила светится в пылающем терновом кусте и в лице Моисея; в Евангелиях она появляется в излияниях Святого Духа в форме исходящих с неба огненных языков. У Гераклита она выступает как мировая энергия, как "вечно живущий огонь": у персов она – огненный блеск "хаомы", божественной благодати; у стоиков она – первотеплота, сила судьбы. В средневековой легенде она выступает как аура, ореол святости, и в виде пламени вырывается из-под крыши шатра, где в экстазе лежит святой. Святые, галлюцинируя, видят эту силу в качестве Солнца, полноты света. В соответствии с древним воззрением сама душа есть эта сила; в идее бессмертия души заключено представление о ее сохранении, а в буддийском и первобытном представлении о метемпсихозе (переселении душ) заключено представление о ее неограниченной способности к превращениям при неизменном сохранении.
Эта идея, таким образом, испокон веков запечатлена в человеческом мозгу. Поэтому она в готовом виде заложена в бессознательном каждого. Требуются лишь определенные условия для того, чтобы снова заставить ее выступить на поверхность. В случае Роберта Майера эти условия, очевидно, оказались в наличии. Величайшие и наилучшие мысли человечества формируются поверх изначальных образов, представляющих собой как бы первичный рисунок. Меня уже часто спрашивали о том, каково же происхождение этих архетипов, или первообразов. Мне кажется, что дело обстоит так, как если бы их возникновение нельзя было объяснить никак иначе, как только предположив, что они представляют собой отражение постоянно повторяющегося опыта человечества. Одно из самых обычных и вместе с тем самых впечатляющих явлений, данных человеческому опыту,- это ежедневное кажущееся движение Солнца. Мы, во всяком случае, не можем обнаружить в бессознательном ничего имеющего к этому отношение до тех пор, пока речь идет об известном нам физическом процессе. Напротив, мы обнаруживаем миф о солнечном герое во всех его бесчисленных вариациях. Этот миф, а не физический процесс есть реальность, образующая архетип Солнца. То же самое можно сказать о фазах Луны. Архетип есть своего рода готовность снова и снова репродуцировать те же самые или сходные мифические представления, В соответствии с этим, таким образом, кажется, что дело обстоит так, как если бы то, что запечатлевается в бессознательном, было бы исключительно субъективным представлением фантазии, вызванным физическим процессом. Можно было бы поэтому предположить, что архетипы суть многократно повторяющиеся отпечатки субъективных реакций (Ср: Die Struktur der Seele in: Seelenprobleme der Gegenwart, 1950, р. 127. Ges. Werke, Bd. 8.). Такое допущение, естественно, лишь уводит от решения проблемы. Ничто не мешает нам предположить, что некоторые архетипы встречаются уже у животных и что они, следовательно, основываются на специфике живой системы вообще и, таким образом, суть лишь выражение жизни, чей статус уже не поддается дальнейшему объяснению. Как представляется, архетипы – это не только отпечатки постоянно повторяющихся типичных опытов, но и вместе с тем они эмпирически выступают как силы или тенденции к повторению тех же самых опытов. Дело в том, что всегда, когда некоторый архетип являет себя в сновидении, в фантазии или в жизни, он всегда несет в себе некоторое особое "влияние" или силу, благодаря которой воздействие его носит нуминозный, т. е. зачаровывающий либо побуждающий к действиям характер.
После обсуждения этого примера возникновения новых идей из сокровищницы изначальных образов продолжим наше изложение процесса перенесения. Мы видели, что именно в таких, по видимости, нелепых и странных фантазиях либидо обрело свой новый объект, а именно – содержание коллективного бессознательного врача. Как я уже говорил, проекция изначальных образов на врача представляет для дальнейшего лечения опасность, которую нельзя недооценивать. Дело в том, что образы содержат в себе не только все самое прекрасное и великое, что когда-либо мыслило и чувствовало человечество, но также все те гнуснейшие подлости и дьявольское варварство, на которые только было способно человечество. В силу своей специфической энергии (они соотносятся как заряженные силой автономные центры) они оказывают зачаровывающее, захватывающее действие на сознание и вследствие этого могут весьма сильно изменять субъекта. Это можно наблюдать в случаях религиозных обращений, при суггестии и в особенности при возникновении определенных форм шизофрении (Подробно проанализированный случай см. в: Symbole der Wandlung, uber Phantasien eines Schizophrenen in: Jahrbuchfurpsychoanalytische undpsychopathologische Forschungen, Bd, 4, 1912, р. 504.). И вот, если пациент не может отличить личность врача от этих проекций, то в конечном счете теряется всякая возможность взаимопонимания и человеческие отношения становятся невозможными. Но когда пациент избегает этой Харибды, он попадает во власть Сциллы – интроекции этих образов, т. е. он приписывает их свойства не врачу, а себе самому. Это тоже плохо. В случае проекции он колеблется между избыточным и болезненным превознесением до небес своего врача и исполненным ненависти презрением к нему. В случае интроекции он впадает в смешное самообожествление или моральное самоуничижение. Ошибка, которую он совершает в обоих случаях, состоит в том, что он приписывает содержания коллективного бессознательного некоторому определенному лицу. Таким образом он превращает другого или себя самого в бога или дьявола. Здесь проявляется характерное действие архетипа: он захватывает психику со своего рода изначальной силой и вынуждает ее выйти за пределы человеческого. Он вызывает преувеличение, раздутость (инфляцию!), недобровольность, иллюзию и одержимость как в хорошем, так и в дурном. Именно поэтому люди всегда нуждались в демонах и никогда не могли жить без богов, за исключением некоторых особенно умных specimina вида "homo occidentalis" (Образчиков (вида) "западный человек" (лат.) вчерашнего и позавчерашнего дня, сверхчеловеков, для которых "бог умер" и которые поэтому сами становятся богами, и притом божками мелкого формата, с толстостенными черепами и холодными сердцами. Дело в том, что понятие бога – совершенно необходимая психологическая функция иррациональной природы, которая вообще не имеет отношения к вопросу о существовании бога. Ибо на этот вопрос человеческий интеллект никогда не сможет ответить; еще менее способен он дать какое-либо доказательство бытия бога. Кроме того, такое доказательство излишне; идея сверхмогущественного, божественного существа наличествует повсюду, если не осознанно, то по крайней мере бессознательно, ибо она есть некоторый архетип. Есть нечто в нашей душе от высшей власти – и если это не осознанный бог, тогда все же по крайней мере это – "чрево", как говорит Павел. Поэтому я считаю более мудрым осознанно признавать идею бога; ибо в противном случае богом просто становится нечто другое, как правило, нечто весьма неудовлетворительное и глупое, что бы там ни выдавливало из себя "просвещенное" сознание. Наш интеллект уже давным-давно знает, что мы не можем правильно мыслить бога, не говоря уже о том, чтобы представить его. Раз и навсегда нужно признать, что вопрос о боге – это такой вопрос, на который нельзя ответить. Но "consensus gentium" (согласие народов) извечно говорил о богах и вовеки будет говорить о них. Сколь бы прекрасным и совершенным по праву ни считал человек свой разум, он точно так же вправе быть уверенным, что разум – это всего лишь одна из возможных функции, соответствующая лишь одной стороне мировых феноменов. Со всех сторон нас окружает иррациональное, не согласующееся с разумом. И это иррациональное также есть психологическая функция, именно коллективное бессознательное, тогда как разум по существу связан с сознанием. Сознание должно обладать разумом, чтобы впервые открывать пор в хаосе неупорядоченных индивидуальных случаев мирового целого, а затем – по крайней мере в пределах человеческих возможностей – также творить этот порядок. Мы имеем похвальное и полезное к тому, чтобы по возможности искоренить в нас и вне нас хаос иррационального. В этом процессе мы, по видимости, немало преуспели. Один душевнобольной мне однажды сказал: "Господин доктор, сегодня ночью я продезинфицировал сулемой все небо и при этом не обнаружил никакого бога". Нечто подобное происходило и с нами.
Древний Гераклит, который действительно был великим мудрецом, открыл самый поразительный из всех психологических законов, а именно – регулирующую функцию противоположностей. Он назвал это так: Enantiodromia, встречный бег, имея в виду, что все переходит в свою противоположность. (Я напомню здесь рассмотренный выше случай с американским бизнесменом, прекрасно демонстрирующий, что такое энантиодромия.) Так, рациональная культурная установка необходимо переходит в свою противоположность, а именно в иррациональное культурное опустошение (Эта фраза написана во время первой мировой войны. Я оставил ее в подтвердится в ходе истории. (Написано в 1925 г.) как показывают современные события, подтверждение не заставило себя ждать слишком долго. Кто же, собственно, хочет этого слепого разрушения?.. Но все с величайшим рвением помогают демону. O sancеta [O святая простота!]. (Доставлено в 1942 г.). Дело в том, что человек не должен идентифицировать себя с самим разумом, ибо человек не только разумен и никогда не будет иным. На это следует обратить внимание всем школьным воспитателям от культуры. Иррациональное не должно и не может быть искоренено. Боги не могут и не должны умереть. Я выше сказал, что в человеческой душе, по-видимому, всегда присутствует нечто подобное некоторой высшей власти, и если это не идея бога, то тогда это – чрево, говоря вслед за Павлом. Этим я хотел выразить тот факт, что всегда какой-либо инстинкт или комплекс представлений концентрирует на себе максимальную сумму психической энергии, посредством чего он принуждает "Я" служить ему. Обычно "Я" настолько притягивается этим энергетическим фокусом, что идентифицирует себя с ним и ему кажется, будто оно вообще ничего другого не желает и ни в чем другом не нуждается. Так возникает мания, мономания, или одержимость, сильнейшая односторонность, грозящая тяжелейшим образом нарушить психическое равновесие. Без сомнения, в способности к такой односторонности кроется тайна определенных успехов, почему цивилизация и стремится усердно культивировать подобные односторонности. Страсть, т. е. концентрация энергии, заключающаяся в таких мономаниях, есть то, что древние называли неким "богом", и наше словоупотребление все еще поступает так же. Разве мы не говорим: "Он делает бога из того или из этого"? Человек полагает, что он еще совершает волевые акты и выбирает и не замечает, что он уже одержим, что его интерес уже стал его господином, присвоившим себе власть. Такие интересы становятся своего рода богами, которые, если они признаны многими, постепенно образуют "церковь" и собирают вокруг себя общину верующих. Тогда это называется "организацией". Последняя преследуется дезорганизующей реакцией, стремящейся вышибить клин клином. Энантиодромия, угрожающая всегда, когда движение достигло несомненной власти, не представляет собой, однако, решения проблемы, а столь же слепа в своей дезорганизации, как и в своей организации.
От жестокого закона энантиодромии ускользает лишь тот, кто умеет отличать себя от бессознательного, не посредством, скажем, того, что он его вытесняет – ибо тогда оно просто овладевает им исподволь, – а посредством того, что он делает его видимым и ставит его перед собой как нечто отличающееся от него.
Тем самым уже подготовлено разрешение той проблемы Сциллы и Харибды, которую я описал выше. Пациент должен научиться различать, что есть "Я" и что есть "не-Я", т. е. коллективная психика. Тем самым он получает материал, с которым ему начиная с этого момента еще долго предстоит разбираться. Его энергия, которая раньше была заключена в негодных, патологических формах, нашла теперь свою, подобающую ей сферу. Различение "Я" и "не-Я" включает в себя то, что человек в своей Я-функции стоит на твердых ногах, т. е. исполняет свой долг по отношению к жизни, так что он во всех аспектах есть жизнеспособный член человеческого общества. <...>
<...> В той мере, в какой это позволяет наш сегодняшний опыт, мы можем выдвинуть утверждение о том, что бессознательные процессы находятся в компенсаторной связи с сознанием. Я недвусмысленно употребляю слово "компенсаторный", а не слово "контрастирующий", потому что сознание и бессознательное вовсе не обязательно противоположны друг другу, но взаимно дополняются до целого – самости. В соответствии с этой дефиницией самость есть вышестоящая по отношению к сознательному Я величина. Самость охватывает не только сознательную, но и бессознательную психику, и потому, так сказать, есть личность, которой мы также являемся. Мы хорошо можем представить себе, что у нас есть части души. Например, мы без труда можем видеть самих себя в качестве персоны. Но ясно осознать, что мы – это самость,- превыше нашего воображения, ибо тогда часть должна была бы понять целое. И нет надежды на то, что когда-нибудь мы достигнем хотя бы приблизительной осознанности самости, ибо сколько бы мы ни осознавали себя, всегда останется в наличии неопределенная и неопределимая величина бессознательного, которая тоже принадлежит к тотальности самости. Таким образом, самость всегда останется вышестоящей по отношению к нам величиной.
Бессознательные процессы, компенсирующие сознательное Я, содержат в себе все те элементы, которые потребны для саморегулирования целокупной психики. На личностной ступени это не признанные сознанием личностные мотивы, появляющиеся в сновидениях; или значения дневных ситуаций, не замеченные нами; или выводы, не сделанные нами; или аффекты, которые мы себе не позволили; или критика, которую мы оставили при себе. Но чем больше путем самопознания и соответствующего ему поведения мы осознаем сами себя, тем интенсивнее исчезает слой личного бессознательного, залегающий поверх коллективного бессознательного. Благодаря этому возникает сознание, не втиснутое больше в мелочный и личностно чувствительный мир Я, а сопричастное более широкому миру, объекту. Это более широкое сознание – уже не тот чувствительный, эгоистический клубок личностных желаний, опасений, надежд и амбиций, который должен быть компенсирован или хотя бы корригирован противоположной бессознательно-личностной тенденцией, а та функция отношений, связанная с объектом, миром, которая перемещает индивидуума в безусловное, обязывающее и нерушимое сообщество с миром. Возникающие на этой ступени коллизии – это уже не конфликты, вызванные эгоистическими желаниями, а трудности, касающиеся как меня, так и другого. На этой ступени речь идет в конечном счете о коллективных проблемах, приводящих в движение коллективное бессознательное, так как они требуют коллективной, а не индивидуальной компенсации. Здесь мы можем наконец спокойно признать, что бессознательное продуцирует содержания, значимые не просто для того, к кому они относятся, а и для других, даже для многих и, может быть, для всех.
Населяющие первобытные леса Элгона элгонцы объяснили мне, что есть два вида сновидений: обычное сновидение маленького человека и "великое видение", обладатели которого – только великие люди, как-то: колдун или вождь. Маленькие сновидения ничего собой не представляют. Но если у кого-то было "великое сновидение", то он созывает племя, чтобы рассказать сон всем.
Откуда же он знает, "великим" или "малым" было сновидение? Он знает это по инстинктивному ощущению значительности. Он столь явственно ощущает, что впечатление сильнее его, что не думает ни о чем другом, кроме как о том, чтобы удержать сновидение при себе. Он обязан рассказать его, психологически верно предполагая, что оно имеет значение для всех. Сновидение коллективного характера и у нас имеет чувственное значение, побуждающее к сообщению. Причиной этого сновидения выступает конфликт отношений, и потому оно должно быть поставлено в отношение к сознанию, так как компенсирует именно его, а не просто внутреннее личностное искривление.
Процессы, происходящие в коллективном бессознательном, касаются, однако, не только более или менее личностных отношений индивидуума к его семье или более широкой социальной группе, но и отношений к обществу – человеческому обществу вообще. Чем более всеобщим и неличностным является условие, запускающее бессознательную реакцию, тем более значительной, чужеродной и подавляющей будет компенсирующая манифестация. Она побуждает не просто к частному сообщению, а к откровению, к исповеданию, она даже вынуждает к представительской роли.
Один лишь пример может прояснить, как бессознательное компенсирует отношения. Когда-то я лечил одного несколько заносчивого господина. Он вел дело вместе с младшим братом. Между братьями установились очень напряженные отношения, что среди прочего было существенной причиной невроза моего пациента. Из бесед с ним мне было не совсем ясно, что было действительной причиной возникшего напряжения. Он постоянно критиковал брата, а также не слишком благоприятно отзывался о его способностях. Брат часто появлялся в его сновидениях, и притом иногда в образе Бисмарка, Наполеона или Юлия Цезаря, а его жилище – в виде Ватикана или Йилдиз Киоска. Таким образом, очевидно, что его бессознательное имело потребность существенно повысить ранг младшего брата. Из этого я заключил, что мой пациент оценивал себя слишком высоко, а брата слишком низко. Дальнейший ход анализа подтвердил этот вывод во всех отношениях.
Одна юная пациентка, страстно привязанная к своей матери, постоянно видела о ней весьма неблагоприятные сны: та появлялась во сне то как ведьма, то как призрак или преследовательница. Мать сверх всякой меры баловала дочь и своими нежностями так "ослепила" ее, что та оказалась не в состоянии сознательно разглядеть это вредоносное влияние, почему бессознательное и занялось компенсирующей критикой матери.
Был и со мной самим случай, когда я слишком низко – и интеллектуально, и морально – оценил одну из пациенток. И вот во сне я увидел замок на высокой горе. На самой верхней башне был балкон, там сидела моя пациентка. Я не преминул тотчас рассказать ей этот сон; успех лечения, естественно, превзошел все ожидания.
Как известно, более всего компрометируют себя как раз перед теми людьми, которых несправедливо недооценивают. Обратное, естественно, тоже может иметь место, как это, например, произошло с одним из моих друзей. Совсем молодым студентом он оказался на аудиенции у "его превосходительства" по фамилии Вирхов. Когда он, дрожа от страха, хотел представиться тому и назвать свою фамилию, то вдруг произнес: "Моя фамилия Вирхов". На это "его превосходительство", злобно улыбаясь, сказал: "Ах, ваша фамилия тоже Вирхов?" Чувство собственного ничтожества, очевидно, зашло настолько глубоко в бессознательное моего друга, что оно тут же побудило его представить себя идентичным Вирхову.
Когда дело касается более личностных отношений, то, естественно, нет нужды в компенсации уж очень коллективного характера. В первом из упомянутых примеров, напротив, использованные бессознательным фигуры имеют выраженную коллективную природу: это общепризнанные герои. В этом случае есть лишь две возможности толкования: либо младший брат моего пациента – человек, обладающий признанным и крупным авторитетом в обществе, либо пациент страдает завышенной самооценкой по отношению ко всем, а не только к своему брату. Для первого предположения нет никакого основания, а в пользу последнего говорят сами факты. Так как чрезмерная заносчивость моего пациента относилась не только к его брату лично, но и к более широкой социальной группе, то компенсация воспользовалась коллективным образом.
Сказанное верно и применительно ко второму примеру. "Ведьма" – коллективный образ, поэтому мы должны заключить, что слепая привязанность юной пациентки относится не только к матери лично, но и к более широкой социальной группе. Это было именно так, поскольку девушка жила в исключительно инфантильном мире, еще целиком тождественном родителям. Приведенные примеры затрагивают отношения людей в рамках личностного. Но есть и неличностные отношения, которые иногда требуют бессознательной компенсации. В таких случаях возникают коллективные образы, имеющие более или менее мифологический характер. Моральные, философские и религиозные проблемы, видимо, раньше других вызывают мифологические компенсации – именно в силу своего общезначимого характера. В упомянутой выше книге Г. Дж. Уэллса мы находим прямо-таки классическую компенсацию: Примби, карликовая копия личности, обнаруживает, что является не кем иным, как реинкарнацией Саргона, царя царей. К счастью, гений автора спас бедного Саргона от проклятья стать всеобщим посмешищем и даже указал читателю возможность увидеть в этом плачевном абсурде трагический и вечный смысл: м-р Примби, чистое ничто, осознал себя в качестве средоточия всех прошедших и грядущих времен. Легкая сдвинутость – не слишком дорогая цена за это знание, учитывая, что ничтожный Примби не окончательно проглочен чудищем праобраза, что, однако, с ним едва не случилось.
Всеобщая проблема зла и греха – другой аспект наших неличностных отношений к миру. Вот почему эта проблема, как мало что другое, производит коллективные компенсации. Начальным симптомом тяжелого невроза навязчивых состояний у одного пациента было сновидение, посетившее его в 16-летнем возрасте. Он идет по незнакомой улице. Темно. За собой он слышит шаги, Он идет быстрее и от страха старается не шуметь. Шаги приближаются, и страх его растет. Он пускается бежать. Но шаги, кажется, догоняют его. Наконец он оборачивается и видит дьявола. В смертельном страхе он прыгает в воздух и остается там висеть, Этот сон повторился дважды в знак своей особенной важности. <...>
<...> В противоположность христианскому воззрению сновидение выдвигает относительность добра и зла способом, прямо напоминающим известный даосский символ – Ян и Инь.
Из таких компенсаций, разумеется, не следует делать вывод о том, что чем больше сознание растворяется в универсальных проблемах, тем более масштабные компенсации выдвигает бессознательное. Имеются, если можно так сказать, легитимный и иллегитимный подходы к неличностным проблемам. Легитимны такие экскурсы лишь тогда, когда они исходят из самой глубокой и подлинной индивидуальной потребности; а иллегитимны, когда представляют собой либо чисто интеллектуальное любопытство, либо попытки бегства из неприемлемой действительности. В последнем случае бессознательное продуцирует слишком человеческие и исключительно личностные компенсации, откровенно имеющие целью вернуть сознание в стихию повседневности. Те лица, которые иллегитимным образом витают в бесконечном, частенько имеют смехотворно банальные сновидения, пытающиеся смягчить это "хватание через край". Таким образом, из природы компенсации мы без труда можем сделать заключение о серьезности и оправданности сознательных устремлений.
Конечно, есть немало людей, которые не отваживаются признать, что у бессознательного в известном смысле могут быть "великие" мысли. Мне возразят; "Вы что, действительно думаете, будто бессознательное в состоянии проводить, так сказать, конструктивную критику нашего западного духовного склада?" Конечно, если эту проблему рассматривать интеллектуально и неоправданно вменять бессознательному рационалистические намерения, это будет абсурдно. Не надо непременно приписывать бессознательному психологию сознания. Его ментальность инстинктивна; у него нет развитых функций; оно мыслит не так, как мы понимаем "мышление". Оно просто создает образ, отвечающий состоянию сознания, содержащий в себе столько же мысли, сколько и чувства, и является всем чем угодно, только не продуктом
|
| ||
|
+173 |
226 |
Наша жизнь просто прекрасна |
|
+168 |
219 |
Little Showroom |
|
+160 |
212 |
Heilig |
|
+147 |
233 |
Ulanet.ru - Информационно-развлекательный сайт города Улан-Удэ |
|
+17 |
29 |
КАТЯ ЧЕХОВА 2008 |
|
| ||
|
-1 |
43 |
Диетические рецепты |
|
-1 |
8 |
Nique |
|
-1 |
73 |
Список диет |
|
-2 |
9 |
Vlad_Topalov |
|
-2 |
10 |
Комедийный сериал |
Загрузка...
взяты из открытых общедоступных источников и являются собственностью их авторов.
