|
Каталоги Сервисы Блограйдеры Обратная связь Блогосфера
Какой рейтинг вас больше интересует?
|
Иной путь, или Почему Россия лишилась Константинополя.2014-01-17 16:46:54... контролируемая Османская империя на Балканах ... Потеря Османской империей всех европейских владений ... + развернуть текст сохранённая копия 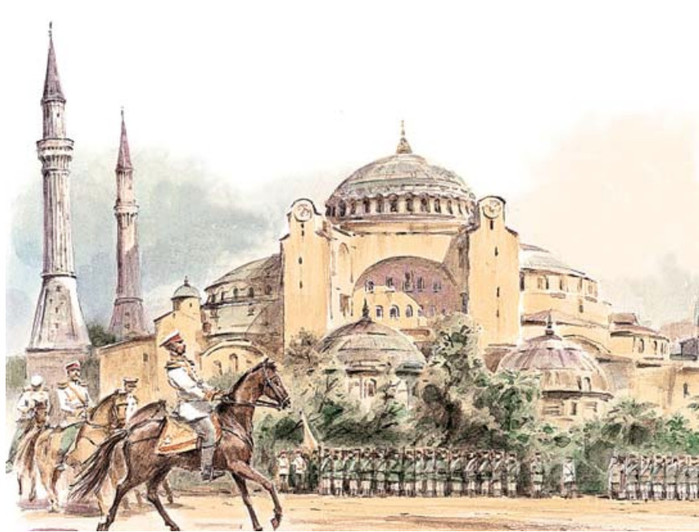 «Адский умысел совершил свое адское дело. Глава государства пал жертвой злодейской руки… Удар пал на Россию, начавшую после долгих лет томления освежаться надеждой на возможность радующего просвета», — писала газета «Русские ведомости» 2 марта 1881 года. Убийство Александра II ввергло страну в состояние шока. Однако роковой взрыв на набережной Екатерининского канала, поставивший точку в истории 25-летнего правления царя-освободителя, стал лишь кульминацией драмы, которая разворачивалась в стране и за ее пределами по меньшей мере с середины 1870-х годов. Случайное в этой драме переплеталось с закономерным, импульсивные решения людей — с непреодолимыми обстоятельствами. При этом многим участникам и очевидцам тех событий было ясно: происходит что-то очень важное, имеющее принципиальное значение для будущего России. Сейчас, по прошествии ста с лишним лет, может показаться, что трагедии и катастрофы, на которые был так щедр XX век, несравненно масштабнее и страшнее. Но, может быть, именно тогда, на рубеже 1870— 1880-х годов, у России был шанс их избежать? И если так, то почему она не смогла им воспользоваться? Закат эпохи Великих реформ Многочисленные преобразования, осуществлявшиеся правительством с конца 1850-х годов, кардинально преобразили страну. Отмена крепостного права, создание крестьянского, земского и городского самоуправления (действительно независимого от администрации) и гласного суда, серьезное смягчение цензуры, всесословная воинская повинность — все это было проведено в жизнь за каких-то полтора десятилетия. Причем темп реформ был необычайно высок вплоть до 1866 года, замедлившись лишь после покушения Дмитрия Каракозова на императора (первого из шести, не увенчавшихся успехом). И хотя реформы эти, будучи отнюдь не «обвальными», не сопровождались ни ослаблением власти, ни падением уровня жизни в стране, в образованном обществе недовольны ими были многие. Одни считали, что правительство действует слишком стремительно и без должной оглядки на прошлое (таковых было немало среди помещиков). Другие, наоборот, нетерпеливо сетовали на недостаточный радикализм преобразований, полагая, что, сказав «а», власть должна немедленно произнести и все остальные буквы алфавита и, выполнив тем самым свою историческую миссию, «испариться». По мнению третьих, преобразования изначально пошли совсем не тем путем. Словом, недостатка в аргументах «за» и «против» явно не ощущалось, хотя стоит заметить, что государственные и общественные деятели тех лет, по-видимому, еще не проникнутые духом политиканства, были удивительно, порой до наивности, искренними. Как бы там ни было, но, сложив число приверженцев всех этих точек зрения и прибавив к ним «просто недовольных», коих в России всегда хватало, можно было бы с удивлением обнаружить, что безоговорочно поддерживало эпохальные реформы лишь незначительное меньшинство образованных россиян (о мыслях по этому поводу необразованного народа нам мало что известно). Перемен ждали очень долго, и, когда они не только не решили всех старых проблем, но и создали множество новых, на первый план в настроениях людей стали выходить разочарование, апатия или просто желание, не задумываясь о смысле происходящего, заняться своими частными делами, чему особенно благоприятствовал бурный рост предпринимательской и деловой активности. Такая ситуация сложилась даже в самом правительстве, раздираемом к тому же внутренними разногласиями. В результате к началу 1870-х годов преобразовательный порыв почти угас. Утрачивая представление о целях и направлении развития, власть действовала по инерции, а то и вовсе бездействовала. Однако жизнь в стране еще была бесконечно далека от того, чтобы спокойно идти своим чередом. Выпустив из рук инициативу, правительство оказалось неготовым к новым внутренним и внешним «вызовам», грозно заявившим о себе уже в середине XIX столетия. Первым из них стал «восточный кризис», который в 1877 году вылился в последнюю Русско-турецкую войну. В отличие от предыдущей, Крымской войны, завершившейся для России унизительным поражением, эта была выиграна. Однако итоги ее вылились не столько в триумф, сколько, напротив, в решающий толчок острому внутриполитическому кризису, давно зревшему в недрах русского общества. Парадоксально, но война началась вопреки желанию Александра II и большинства его министров, под мощным давлением общественного мнения буквально требовавших от власти прийти на помощь «братьям-славянам» — христианским подданным турецкого султана. Единоверцы в Сербии, Черногории, Болгарии традиционно возлагали на Россию большие надежды, тем более что помощи от других европейских держав ждать не приходилось: те были озабочены прежде всего сохранением «баланса сил». Для них слабая, контролируемая Османская империя на Балканах была куда предпочтительнее сильной России, увенчанной к тому же лаврами освободительницы славян. Еще меньше европейские страны (в первую очередь главный наш тогдашний геополитический противник — Великобритания) были заинтересованы в том, чтобы Россия добилась осуществления давней своей мечты — контроля за закрывавшими выход из Черного моря в Средиземное проливами Босфор и Дарданеллы. Надо сказать, что в этой мечте здравое осознание собственных стратегических интересов переплеталось с явной мессианской утопией. Наиболее смелые мыслители — идеологи очень популярного тогда панславизма — в своих фантазиях объединяли под скипетром русского царя народы Балкан и Восточной Европы в огромную славянскую империю, столицей которой многим виделся исторический центр православия — Царьград-Константинополь. По мнению самого известного из таких теоретиков, Николая Данилевского, чтобы добиться этого, Россия должна была победить целую коалицию европейских стран во главе с Британией и Францией. В отличие от подобных прожектеров российские государственные деятели в большинстве своем оценивали ситуацию гораздо более трезво, понимая, что большая война с европейскими державами, к которой может привести предсказуемая победа над Османской империей, потребует громадных жертв при минимальных шансах на успех. Тогдашний министр финансов М.Х. Рейтерн настойчиво предупреждал, что «война остановит правильное развитие гражданских и экономических начинаний… она причинит России неисправимое разорение и приведет ее в положение финансового и экономического расстройства, представляющее приготовленную почву для революционной и социалистической пропаганды, к которой наш век и без того уже слишком склонен». На самом деле, как верно заметил современный историк А.В. Мамонов, Рейтерн «предвидел» уже совершившееся. Положение в стране и без войны было далеко не безоблачным. Поэтому когда в 1875—1876 годах Балканский полуостров охватили восстания и военные выступления славян против турок, Россия оказалась перед очень непростым выбором. Суть его четко выразил сам император в беседе с военным министром Дмитрием Милютиным: «Спрашиваю тебя, благоразумно ли было бы нам, открыто вмешавшись в дело, подвергнуть Россию всем бедственным последствиям европейской войны? Я не менее других сочувствую несчастным христианам Турции, но я ставлю выше всего интересы самой России». Альтернатива 1 Дипломатический кризис вокруг балканских событий разворачивался на протяжении почти двух лет. Это время ознаменовалось для Александра II и его министров сомнениями и колебаниями, возникновением и исчезновением надежд на мирное урегулирование, неожиданным для, казалось, всемогущей власти ощущением зависимости от общественного мнения, чей голос все громче раздавался даже в покоях Зимнего дворца и все настойчивее требовал войны. Разнообразные силы и обстоятельства буквально выдавливали из императора решение о начале военных действий. «Усталый, даже истощенный морально и физически, он не устоял на своей позиции и, не доведя до конца главного дела своего царствования, реформирования России, начал войну, которой и умом, и сердцем, своей чуткой интуицией так хотел избежать», — пишет известный исследователь той эпохи Л.Г. Захарова. Что было бы, сумей Александр II предотвратить войну? Надо сказать, что войны (даже сравнительно успешные) почти всегда ведут к внутренним кризисам. Конечно, кризис, разразившийся в конце 1870-х годов в России, был вызван достаточно глубокими причинами и, по-видимому, был неизбежен. Однако есть все основания полагать, что столь острым сделала его именно война, так или иначе отодвинувшая внутренние проблемы, сколь бы насущны они ни были, на задний план. В настроениях общества поначалу доминировала одна простая мысль: «Лишь бы победа, а остальное пока не важно». Но это похоже на выписывание векселя, который по окончании сражений (и независимо от их исхода) всегда предъявляется совершенно не готовой к этому власти. Впрочем, платить приходилось и по настоящим векселям. Война, стоившая Российской империи суммы, более чем вдвое превышавшей годовой бюджет, привела к резкому падению курса рубля, скачку инфляции и к тому же совпала с европейским экономическим кризисом. В итоге страна оказалась на грани финансового банкротства. Не менее тяжкими были последствия войны и для Александра II, от воли которого во многом зависела ситуация в стране. «Мы были поражены его изменившимся внешним обликом, когда он вернулся в Россию, — вспоминала фрейлина императрицы графиня Александра Толстая. — Поразительная худоба свидетельствовала о перенесенных испытаниях. У него так исхудали руки, что кольца сваливались с пальцев…» Однако дело было не только в физическом, но и в психологическом истощении. Император все больше тяготился грузом ответственности, лежавшим на его плечах, все менее твердыми и осмысленными были его государственные решения. Война надломила его. Не будь ее, кто знает, может быть, Россия наконец получила бы ту длительную мирную передышку, которой ей всегда так не хватало для решения внутренних проблем… Но вернемся в 1876 год. В среде высшего военного командования были тогда и те, кто считал, что война (при условии выбора грамотной стратегии) может закончиться быстрой победой, которая приведет к желательному для России решению «восточного вопроса». В соответствии с планом, разработанным талантливым военачальником генералом Н.Н. Обручевым, русская армия должна была, стремительно переправившись через Дунай и не тратя времени на осаду крепостей и вытеснение врага с обширной территории Болгарии, по кратчайшему пути двинуться прямо к столице Османской империи и занять ее, не дожидаясь реакции европейских держав. «Нам во всяком случае не избегнуть столкновения с Англией, — писал Обручев, — и лучше встретить ее в Константинополе, чем биться с нею у наших берегов». При всей своей дерзости план этот отнюдь не являлся неосуществимым. Осенью 1876 года, когда он был сформулирован, Турция еще не была готова противостоять русской армии. Но даже весной следующего года, когда война все-таки началась, при соблюдении этого плана, решительном и умелом руководстве армией молниеносная победа была достижима. И нужна она была России как воздух! В том, что Турция проиграет, в Европе мало кто сомневался. Важно было, как отмечает специалист по военной истории О.Р. Айрапетов, продемонстрировать, что Россия может победить без особого напряжения, а значит, способна встретить давление держав не истощенной, а с позиции силы. Все пошло совсем не так… Назначенный главнокомандующим армией брат царя великий князь Николай Николаевич не отличался ни решительностью, ни организаторскими способностями и к тому же терпеть не мог Обручева; силы наступающих были распылены; о быстром переходе через Балканы и выходе основных сил на подступы к Константинополю не было и речи. Русская армия увязла в осаде Плевны. Три штурма этой крепости окончились провалом. Неумолимо приближалась зима. Над Россией нависла угроза затяжной войны. Лишь в декабре, полностью израсходовав запасы, Плевна сдалась. Неизвестно, как долго продлилась бы война после этого, если бы не было принято волевое решение совершить переход через горные перевалы зимой в 20-градусный мороз. Просчеты командования, как часто бывало в нашей истории, с лихвой компенсировал феноменальный героизм русских солдат. 31 января в занятом отрядом М.Д. Скобелева местечке Сан-Стефано (в 12 километрах от Константинополя) было подписано перемирие. Но войти в турецкую столицу русские войска не решились: к тому времени Британия уже ввела в Мраморное море эскадру броненосцев и всячески демонстрировала свою решимость остановить победителей «силою оружия». Истощенная неожиданно тяжелой войной, Россия не могла позволить себе игнорировать эту угрозу. «Наши военные силы, — признавал военный министр, — так расстроены войной, так разбросаны, что не предвидится никакого вероятия успеха» в борьбе с Англией и Австро-Венгрией (основными противниками усиления России на Балканах). На Берлинском конгрессе итоги войны были пересмотрены не в пользу России. Проливы и статус средиземноморской державы остались несбыточной мечтой, а так и не разрешенный «восточный вопрос» превратил Балканы в «пороховой погреб Европы», взорвавшийся в 1914 году. Как могла бы сложиться история страны и всей Европы, если бы план Обручева был успешно реализован и военные действия закончились бы для русской армии в Константинополе и не через 9 месяцев после их начала, а уже осенью 1877-го? Что могло бы являться для России наиболее благоприятным исходом войны? Потеря Османской империей всех европейских владений? Пророссийские правительства во всех государствах полуострова? Объявление русского протектората над Константинополем и проливами, словом, радикальное решение «восточного вопроса» в пользу России? Трудно представить, что Европа, в которой у России тогда не было ни одного сколько-нибудь надежного союзника, смирилась бы с подобным развитием событий. Большие войны начинались и из-за куда менее значительных конфликтов; здесь же, на Балканах и в Мраморном море, сталкивались слишком серьезные интересы крупнейших держав, дабы одна из них могла надеяться на безраздельное доминирование. В свою очередь России после быстрой победы «малой кровью» сложно было бы уступать давлению потенциальных противников. Парадоксально, но возможно, что относительная неудача в боевых действиях 1878 года спасла бы страну от куда более страшной войны, в которой ее шансы на победу выглядели бы крайне сомнительными. Русские солдаты у знаменитого храма Святой Софии в отличие от своих предшественников, гордо шествовавших в 1815 году по Парижу, могли бы стать не столько триумфаторами, сколько грозными предвестниками новых бурь. И все же — представим себе, что кризис для России завершился благоприятно, и отныне Балканы и проливы являлись признанной сферой ее доминирования. «Освобожденные народы не благодарны, а требовательны», — писал в свое время Отто фон Бисмарк. В век бурного развития промышленного капитализма окончательный исход политических конфликтов решался не военной, а экономической экспансией, обеспечивавшей инвестиции, концессии, активное торговое сальдо, выгодные контракты и удобные пути сообщения… Мощные материальные силы тянули балканские страны в сторону соперничавших с Россией государств. Да, экономика нашей страны росла в те годы достаточно быстро, но все-таки она далеко отставала от Великобритании, Германии и даже Австро-Венгрии. Индустриализация только вступала в свою решающую фазу, и русские предприниматели просто не могли всерьез соперничать на Балканах с европейскими. Политические же симпатии элиты освобожденных славянских народов были крайне зыбки и переменчивы… Так что завоеванные позиции медленно, но верно «уплыли» бы в другие руки (подобно тому, как это и произошло на самом деле). Однако в этой не слишком оптимистической картине можно найти и светлую сторону, касающуюся, как ни странно, не внешней, а внутренней политики. Благоприятный исход восточного кризиса мог бы воодушевить императора и дать толчок «второму изданию» Великих реформ, в продолжении которых так нуждалась страна. В реальной истории таким толчком стали события совсем иного характера. Альтернатива 2 Начало волне террора было положено в январе 1878 года, когда 29-летняя революционерка («нигилистка», как часто называли их в обществе) Вера Засулич, по собственной инициативе выстрелившая в петербургского градоначальника Ф.Ф. Трепова, была схвачена, предстала перед судом присяжных и… оказалась им оправдана! В августе еще один революционер, 27-летний Сергей Кравчинский, прямо в центре Петербурга зарезал кинжалом шефа жандармов Н.В. Мезенцова, после чего сел в пролетку и благополучно скрылся. Теракты совершались под флагом мести за репрессии и встречались некоторой частью общества если не сочувственно, то «с пониманием»: правительство-де само виновато, ведь именно оно необоснованным угнетением заставляет молодых идеалистов идти на крайности. От рук террористов погибло еще несколько человек, а в марте следующего года Петербург узнал о покушении на государя. Некий бывший студент Александр Соловьев спокойно приблизился на улице к Александру II, отдал ему честь, а затем достал револьвер и открыл стрельбу. Стрелять он, правда, не умел, и побежавший зигзагами император даже не был ранен. Но настоящая охота на государя развернулась после того, как летом 1879 года наиболее радикально настроенные революционеры решили всеми силами добиваться его смерти — они патетично именовали это «вынесением смертного приговора». В ноябре был взорван поезд, в котором, как считали убийцы, ехал Александр II, а 5 февраля 1880 года чудовищный взрыв потряс уже Зимний дворец. Оказалось, что один из террористов, Степан Халтурин, устроился во дворец плотником и сумел пронести в него около трех пудов (!) динамита, которые и взорвал под обеденной залой в момент, когда там должен был находиться император (тот всего на полчаса задержался). Нынешнему поколению россиян не так уж сложно представить себе то крайне тягостное чувство, которое доминировало в ту пору в настроениях и правительства, и общества, закономерно преувеличивавших организованность террористов и масштабы их деятельности. Гораздо труднее понять, каково было человеку, ставшему главным объектом этой охоты. Александр II, как показывает его поведение в роковой день 1 марта, вряд ли испытывал перед убийцами панический страх и уж тем более вряд ли думал о том, чтобы утихомирить их какими бы то ни было уступками. Но какую, должно быть, тоску вызывало у него, и без того безмерно уставшего, ощущение, что жизнь его зависит от какой-то анонимной, бессмысленной и злобной силы… В этот драматический момент на политической сцене должен был появиться кто-то, способный вывести правительство из тупика. В соответствии с законами жанра эту роль сыграл человек, сравнительно чужой для столичных кругов — талантливый военачальник и администратор, герой недавней Русско-турецкой войны (он воевал на Кавказском фронте) граф Михаил Тариелович Лорис-Меликов. После взрыва в Зимнем он был облечен почти диктаторскими полномочиями и вскоре смог сформулировать достаточно четкую программу действий правительства в условиях кризиса. Но прежде чем рассуждать, какой альтернативный путь исторического развития мог крыться за ее реализацией, подумаем, можно ли было избежать трагического исхода последнего покушения на царя освободителя. Читатель, наверное, уже обратил внимание на вопиюще непрофессионально организованную охрану главы государства (о министрах говорить и вовсе не приходится). Конечно, до начала кампании террора в серьезной охране царя вообще не было необходимости. Но ничего принципиально не изменилось даже тогда, когда стало ясно, что угроза его жизни не только серьезна, но и вполне реальна. Явные просчеты в обеспечении безопасности императора касались, во-первых, предотвращения покушений, во-вторых, самой охраны при его перемещениях. Известно, например, что задолго до взрыва в Зимнем при одном из обысков был найден план дворца с помеченной на нем обеденной залой, но никаких мер вслед за этим не последовало. Обеспечением безопасности императора занималось тогда несколько разных ведомств, что тоже создавало путаницу. Но хуже всего было то, что сопровождали Александра II даже не сколько-нибудь обученные телохранители, а, как это было, например, 1 марта, семеро терских казаков и трое полицейских во главе с обычным чиновником — полицеймейстером А.И. Дворжецким. По одной из версий, тем же воскресным утром 1 марта во дворце было получено сообщение, в котором точно указывалось место будущего покушения. Однако изменить заранее известный маршрут движения царя министр двора граф А.В. Адлерберг не решился якобы потому, что накануне в ответ на очередное предостережение Александр II раздраженно заявил: «Слушай, Адлерберг! Я тебе уже не раз говорил и еще раз приказываю: не смей мне ничего докладывать о готовящихся на меня покушениях… Я хочу остаток жизни прожить в покое». Сейчас даже дилетанту ясно, что именно должна делать охрана сразу после неудавшегося покушения — немедленно увезти охраняемого подальше от места событий. Когда один из террористов, Николай Рысаков, бросил в карету царя первую бомбу, тот, оставшись невредимым, сначала вышел из поврежденного экипажа, затем подошел к раненым, к Рысакову, а потом еще вознамерился осмотреть место взрыва… В рядах охраны тем временем царила явная растерянность. Все эти необъяснимые и нелогичные обстоятельства и позволили другому террористу, Игнатию Гриневицкому, продолжить начатое дело второй бомбой. Трагизм происшедшего усугублялся тем, что властям к 1 марта уже удалось выйти на след террористов, и их арест был вопросом нескольких дней. Покушение на Екатерининском канале фактически было их последним шансом. Чуть больше осторожности при планировании маршрута движения или немного более умелые действия того же Дворжецкого — и царь был бы спасен… Итак, убийство Александра II было скорее случайным, чем неизбежным. Какого же будущего лишила страну эта случайность? Альтернатива 3 Не собираясь ни на йоту уступать террору, Лорис-Меликов очень тонко уловил главную проблему пореформенной России — она заключалась в состоянии апатии и глубокой неудовлетворенности, ставшем уже привычным для подавляющего большинства представителей «образованного общества». Лорис-Меликов не был человеком, склонным к каким-то радикальным решениям, необоснованным жестам или популистской демагогии. Его программа была достаточно проста и бесспорна: облегчить налоговое бремя, помочь крестьянам, повысить эффективность управления, наладить контакт с прессой, и главное — превратить общество из пассивного наблюдателя (а потому и постоянного критика) любых действий власти в организованную силу, разделяющую с нею бремя ответственности за судьбу страны. Оживить, воодушевить русское общество могло только реальное дело. По мысли Лориса и его единомышленников, таким делом должно было стать участие общественных избранников в разработке самих реформ. Не вдаваясь в детали, заметим, что эта идея, получившая у публицистов и исследователей громкое название «конституции Лорис-Меликова», ничего общего с настоящей конституцией не имела. Как показал историк А.В. Мамонов, Лорис собирался не ограничивать самодержавие, тем самым противопоставляя его обществу, а, наоборот, сплачивать это общество, делая его союзником самодержавной власти. И все-таки при известной доле фантазии это проектировавшееся совещательное собрание представителей земств и городов (всего около сотни человек) можно было воспринимать как подобие «первого российского парламента», правда, совершенно не похожего на парламенты европейские. Наверное, так его и восприняли бы многие русские конституционалисты, чьи пожелания были в те времена весьма скромны. Любопытно, что сам Александр II, всю жизнь стойко сопротивлявшийся всему, что можно было счесть ограничением его власти, одобрив предложение Лориса, заметил: «Я дал согласие на это представление, хотя и не скрываю от себя, что мы идем по пути к конституции». Эти слова были произнесены все тем же утром 1 марта 1881 года… После смерти царя проект Лориса так и остался неосуществленным. Конечно, на пути реализации этого плана лежало множество более или менее серьезных препятствий. Главные из них заключались в незрелости самого общества и в непоследовательности правительства. Российская политическая элита уже тогда не только была далека от единства, но и не имела привычки к тому, чтобы этого единства желать. Хотя, по сути, отнюдь не всемогущая власть слишком долго оставалась единственным игроком на политической сцене. Именно она по своему усмотрению фактически создавала и трансформировала общество, да и постоянные волнообразные колебания правительственной политики (от реформ — к реакции, и наоборот), казалось, тоже целиком зависели лишь от ее воли или безволия. Великие реформы положили конец этому «театру одного актера». Но они не могли вдруг воспитать партнеров, равных ему по масштабу, богатству традиций и организованности. В результате правительство оказалось в роли не слишком умелой «няньки», тщетно пытающейся утихомирить ораву своенравных, капризных и не по возрасту требовательных детей. Лорис-Меликов предлагал выбрать спокойный и неавторитарный стиль их «воспитания». Естественно, у такого подхода нашлись противники, считающие, что он способен только избаловать этих «беспокойных детей». Кроме того, по их мнению, самодержавию больше приличествовала патриархальная роль справедливого, но строгого отца семейства, куда лучше этих самых детей знающего их нужды (примерно такой позиции придерживался новый император Александр III). Мне же кажется, что предложенный графом метод имел серьезные шансы на успех — но только при условии, что правила не менялись бы по ходу игры, что, как известно, зачастую бывает чревато неврозами как у воспитуемых, так и у воспитателей. Успех программы Лорис-Меликова мог бы повернуть всю историю нашей страны. Появилась бы возможность избежать того глубокого отчуждения общества (так и оставшегося в положении «трудного подростка») от утратившей былой авторитет власти, которое сделало обе стороны этого совсем не обязательного конфликта такими беспомощными перед лицом социальных потрясений грядущего XX века. А ведь именно это отчуждение превратило революцию, подобия которой были пережиты многими европейскими странами, в страшную по своим масштабам и последствиям катастрофу… Альтернатива 4 Коснуться этого аспекта автора заставляет вовсе не желание подбавить в повествование мелодраматический оттенок — фактор личной жизни играл в судьбе императора Александра II крайне важную роль, а незадолго до его смерти приобрел и отчетливое политическое звучание. Дело в том, что на протяжении полутора последних десятилетий жизни император имел фактически две семьи. Роман с княжной Екатериной Долгорукой был не мимолетным увлечением влюбчивого человека, а настоящей страстью, поглощавшей его чувства и мысли. И развязка политической драмы совпала с кульминацией драмы личной. 22 мая 1880 года после длительной болезни скончалась императрица Мария Александровна. Едва дождавшись истечения 40 дней после ее смерти (то есть задолго до окончания положенного по традиции годичного траура), император тайно обвенчался с княжной Долгорукой, которая вместе с потомством (сыном Георгием и двумя дочерьми) получила титул светлейшей княгини Юрьевской. «Я хочу умереть честным человеком и должен спешить, потому что меня преследуют убийцы», — якобы повторял Александр II. Это событие шокировало его многочисленных родственников, особенно старшего сына и наследника цесаревича Александра Александровича. Не менее тяжело переживали случившееся все, кто был близок к покойной императрице и цесаревичу. Столкнувшись с почти неприкрытой оппозицией среди родных и близких, самодержец (это было особенностью его характера) упорно не желал отступать. Напротив, судя по некоторым данным, он собирался короновать Юрьевскую, подобно тому, как это когда-то сделал со своей второй супругой Петр I. Были даже те, кто утверждал, что видел собственноручно нарисованный императором вензель новой императрицы Екатерины III. Рожденный задолго до брака Георгий становился бы таким образом великим князем. И это был бы настоящий династический кризис. «Положение наследника становилось просто невыносимым, — вспоминала фрейлина Александра Толстая, — и он всерьез подумывал о том, чтобы удалиться «куда угодно»». По другим данным, отречься от престола собирался сам Александр II, с тем чтобы провести остаток жизни с новой семьей в Ницце. Историк Л.М. Ляшенко даже посвятил целую главу биографии царя размышлениям на тему, к чему мог привести такой поступок. Думается, шансы на подобное развитие событий были не очень велики. Этот шаг был бы беспрецедентен и даже еще более скандален, чем коронация светлейшей княгини Юрьевской (а после нее — вообще лишался всякого смысла). Кроме того, подобное безболезненное превращение одного из самых могущественных людей планеты в частное лицо вообще трудно представимо. Едва ли и сама Юрьевская была в нем заинтересована. Другое дело, что в поисках выхода из сложившейся ситуации император наверняка обдумывал разные варианты, в том числе и этот. Любопытно также, что, по слухам, в своем намерении короновать вторую жену Александр II находил поддержку у Лорис-Меликова. Если так, то получалось, что исполнение планов диктатора оказывалось связанным с судьбой Юрьевской. Таким образом, и в без того сложное политическое уравнение добавлялась новая переменная. Обращаясь к этой истории, сведения о которой основываются на слухах и семейных преданиях, почти невозможно расставить правильные акценты. Еще сложнее делать прогнозы ее неосуществившегося развития. Ясно одно — если бы коронация Екатерины III состоялась, то в тогдашних обстоятельствах она нанесла бы колоссальный удар по престижу династии и окончательно рассорила бы императора с родными. Не понимать этого Александр II не мог, и даже если он и думал о такой возможности, то, наверное, при всей своей властности едва ли решился бы на подобный шаг… К слову сказать, после гибели Александра II княгиня Екатерина Михайловна Юрьевская вместе с детьми переселилась во Францию. Пережив и монархию, и династию, она умерла в Ницце в 1922 году в возрасте 75 лет. Так что если бы трагедии 1 марта удалось избежать, наиболее вероятным было бы сохранение положения, каким оно сложилось после тайного венчания: морганатический брак, глухой ропот родственников, ползущие по Петербургу и стране разнообразные слухи и как итог — растущее стремление Александра II отгородиться от окружающего мира, замкнувшись в жизни с новой семьей. В таких условиях осуществление политической программы Лорис-Меликова зависело бы от его такта и чутья, которых, впрочем, ему было не занимать. Кажется, что его шансы на успех даже увеличивались, поскольку, лишенный опоры в кругу родных, император инстинктивно мог бы искать ее там, где и предлагал Лорис — в обществе. Но политическую линию, в основе которой лежат такие побуждения, конечно, никак нельзя было бы считать прямой и твердой. Дело реформ, а вместе с ним и будущее страны вновь становились очень хрупкими. Игорь Христофоров Лариса Захарова, доктор исторических наук, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Известно, что история не терпит сослагательного наклонения, однако размышления о несостоявшихся альтернативах ее развития — занятие не только увлекательное, но и небесполезное. Во всяком случае, избранный в представленной статье сюжет дает богатый материал для рассуждений об упущенных возможностях и вариантах развития России в результате проведенных Александром II Великих реформ и последовавших за ними событий. Написанная на основе глубокого понимания эпохи статья, даже не абсолютно убедив читателя (она на это и не претендует), позволит ему ярче и многограннее представить далекое прошлое, оставившее за собой последствия, которые ощущаются и до сей поры. «Ни одно вступление на престол в Российской империи не сопрягалось с такими грозными внешними опасностями», — писал о воцарении Александра II в 1855 году известный историк той эпохи Михаил Погодин. Тяжелая и неудачная для России Крымская война, фактическая изоляция на международной арене, надвигавшийся финансовый кризис, недовольство всех слоев населения — все это ставило императора перед неизбежностью новых политических решений и выбора нового пути развития страны. Каким он будет, зависело не только от объективных обстоятельств, но и от личности монарха, его характера, способностей и мировоззрения. «Крымская опасность» как угроза величию державы, ее целостности и единству, по свидетельству военного министра Д.А. Милютина, «запала тяжелым камнем в помыслы императора… и на многие годы смутила его душевный покой». Предпринимая дипломатические усилия для преодоления тяжелых условий Парижского мира, он сосредоточил внимание на внутренних преобразованиях, начав их с отмены крепостного права. В этом главном деле своей жизни Александр II действовал не только под давлением обстоятельств, но и в силу ощущения «духа эпохи» и трезвого понимания неизбежности перемен. Воспитанник В.А. Жуковского, ученик М.М. Сперанского, он не чуждался гуманных идей, а по складу характера был восприимчив к новым веяниям, склонен к добру. В 1863 году царь писал французскому императору Наполеону III: «Опыт свидетельствует, что истинное условие спокойствия в мире заключается не в неподвижности, которая невозможна, и не в шаткости политических сделок… а в практической мудрости, необходимой для того, чтобы примирять историю — этот незыблемый завет прошедшего — с прогрессом, залогом настоящего и будущего». А за два месяца до этого, выступая перед депутатами восстановленного им в Финляндии сейма, он призывал их продемонстрировать, что «либеральные учреждения не только не опасны, но составляют залог порядка и благоденствия». Д.А. Милютин, сам слышавший эту речь, заметил, что эти слова «имели, конечно, назидательный смысл и для самой России». Крестьянская реформа и последовавшие за ней преобразования, не предусматривая одномоментного переворота во всех сферах государственной жизни, закладывали для этого переворота фундамент и исключали возможность реставрации дореформенных порядков. В результате колебаниям подвергся основной принцип русской жизни — связь прогресса с крепостничеством. Модернизация России продолжилась на новой основе — освобожденного труда крестьян, развития частной инициативы, зарождения гражданского общества. Так почему же с середины 1860-х годов преобразовательный порыв сначала замедлился, а затем и вовсе иссяк? Можно согласиться с автором, который пишет об отсутствии у власти существенной поддержки в обществе. Кстати, опасность такой ситуации хорошо понимали сами авторы реформ. Уволенный в отставку лидер блестящей когорты реформаторов Николай Милютин уже в конце 1861 года писал брату Дмитрию: «Необходимо создать мнение или, пожалуй, партию серединную, говоря парламентским языком — «le centre», которой у нас нет, но для которой элементы, очевидно, найдутся. Одно правительство может это сделать, и для него самого это будет лучшим средством». А в апреле 1863 года, Тэги: 1877--1878, александр, балканская, биографии, биографии., великие, война, империя, интересное., история, история., культура, люди, люди,, непознанное., реформы, романовы, россии, россии., российская, русские, судьбы, судьбы,, цари Версальский гнойник.2014-01-16 20:43:18... понимала. Британская колониальная империя достигла в это ... + развернуть текст сохранённая копия План Хауса и мировое господство  95 лет назад была предпринята первая попытка установить американский «мировой порядок». С 18 января 1919 г. в Париже и его пригородах (в основном, в Версале) заседала конференция, призванная подвести итоги Первой мировой войны. Хотя задолго до Версаля началась подготовка к строительству новой международной системы. Наиболее полно она отразилась в дневниках и письмах Мандела Хауса, советника и серого кардинала при американском президенте Вильсоне. Поэтому данные разработки иногда называют планом Хауса. Они нацеливались ни больше ни меньше - на мировое господство… После того, как Америка пожала плоды нейтралитета, невиданно разбогатела на поставках враждующим коалициям, требовалось пожать и плоды победы. Для этого США должны были вступить в войну. Но вступить только после свержения русского царя – чтобы сама война приобрела характер борьбы “мировой демократии” против “мирового абсолютизма”. Об этом Хаус писал Вильсону еще летом 1916 г.! Ведь срок вступления США в войну оговаривался с державами Антанты заранее. Но и крушением русской монархии ограничиваться не следовало. Россия должна была пасть окончательно. В этом случае немцы и их союзники навалятся всеми силами на Запад. А французам, англичанам, итальянцам останется надеяться уже не на русских, а только на американцев. США получали возможность диктовать им любые условия. Чтобы одолеть противников, Вильсону следовало провозгласить, что война ведется не против народов Германии, Австро-Венгрии, Турции, Болгарии, а только против монархических режимов. Заигрывать с демократами в этих странах и инициировать революции. А после победы выдвигался проект “пересмотра системы международных отношений”. США до начала ХХ в. придерживались политики изоляционизма: согласно доктрине Монро не допускали европейского вмешательства на Американском континенте, но и сами в дела Старого Света не лезли. Европейские державы без них переплелись сложными лабиринтами договоров. Втискиваться в эту систему, по плану Хауса, было бесперспективно и вредно. Ее предстояло смести. Объявить старую дипломатию “плохой” и отбросить, а на чистом месте строить новую. Ну а в итоге виделось - “надо построить новую мировую систему”. С образованием “мирового правительства”, где будет лидировать Америка. Хаус убеждал Вильсона: “Мы должны употребить все влияние нашей страны для выполнения этого плана”. Что же касается России, то она, выйдя из войны, выбывала из числа победителей. Мало того, ее саму можно было пустить в раздел вместе с побежденными. Задолго до Бжезинского Хаус писал: “Остальной мир будет жить более спокойно, если вместо огромной России в мире будут четыре России. Одна – Сибирь, а остальные – поделенная Европейская часть страны”. Нетрудно увидеть, что с 1917 г. события начали развиваться именно по такому сценарию. В реализации «плана Хауса» участвовали американские и европейские политики, дипломаты, спецслужбы. Участвовали и революционеры – хотя из них только считанные единицы догадывались, на кого они, в конечном счете, работают и чей заказ исполняют. Хотя некоторые, конечно, знали. Так, после Октябрьской революции наркомом иностранных дел в советском правительстве стал Лев Давидович Троцкий, приехавший из США, имевший американское гражданство (и вдобавок, установивший очень тесную дружбу с британской разведкой). Первое, чем он занялся на новом посту – вскрыл архивы МИД России. 23 ноября началась публикация тайных договоров, которые наша страна заключала с другими державами. Эта акция четко ложилась в струю плана Хауса. Сразу же, 25 ноября, большевистские публикации принялась перепечатывать “Нью-Йорк таймс”. Поднялся грандиозный скандал. По сути, весь фундамент дипломатии Европы оказался взорванным. Тут-то и подключился Вильсон. Возмущенно объявил, что старая дипломатия никуда не годится, должна быть осуждена и похоронена. А взамен выложил собственные, заранее подготовленные “Четырнадцать пунктов” послевоенного переустройства мира – именно они послужили основой для последующих решений Версальской конференции. Следующим шагом Троцкого стало заключение Брестского мира. Как нетрудно понять, это тоже отлично вписывалось в “план Хауса”. Россия вышла из войны, вычеркивалась из категории победителей – и вместо надежд на нее странам Антанты пришлось умолять о помощи Америку. Кроме того, результатом политики Льва Давидовича стало германское наступление с отделением Украины, Крыма, Белоруссии, Прибалтики, Финляндии, Закавказья. Началось расчленение России. А под предлогом германской угрозы и “игры на противоречиях” Троцкий открыл дорогу для оккупантов Антанты. Пригласил англичан, французов и американцев высадиться на Севере России, потом спровоцировал чехословацкий мятеж и интервенцию в Сибирь. Немцев и их союзников Антанта сломила теми самыми методами, которые предлагал Хаус. Их начали одолевать на фронтах, но наряду с этим распространялись заявления, будто война ведется только против монархий. Наводились контакты с социалистами и либералами в державах противника. Им забрасывали удочки – если падут императорские короны, то Америка готова будет заключить почетный мир. Осенью 1918 г. покатилась цепь революций в Болгарии, Турции, Австро-Венгрии. Наконец, грянуло в Германии. Кайзер сбежал в Голландию. А немцы наивно поверили, будто с демократами западные державы обойдутся мягко, договорятся чуть ли не полюбовно. К власти пришло социал-демократическое правительство, обратилось о начале переговоров. 11 ноября в Компьене было подписано перемирие. Германия обязалась демобилизовать армию, выдавала победителям флот, уступала французам Эльзас и Лотарингию. Для выработки окончательных мирных договоров как раз и предназначалась Парижская (Версальская) конференция. На нее съехались делегации 27 стран-победительниц и 5 доминионов Великобритании. Участвовали даже такие «победители» как Гаити, Гватемала, Гондурас. Наверное, народы этих государств даже не подозревали, что они воевали. Зато Россия, внесшая самый весомый вклад в победу, вообще не была представлена. Хотя в Париже находились делегации белогвардейских правительств – уж они-то сохранили верность Антанте. Специально для участия в конференции сформировалась “Всероссийская дипломатическая миссия” во главе с Чайковским и Савинковым. Однако лидеры Запада эту миссию даже на порог не пустили. Теперь им было выгоднее считать «законным» русским правительством большевиков – германских союзников. Но и из тех государств, которые были допущены на конференцию, большинство скромненько подписывало бумаги, подготовленные для них «старшими». Из трех с лишним десятков стран-победительниц был выделен Совет Десяти. Основных, главных. Но решения принимались отнюдь не «десяткой». Над ней возвысилась «большая четверка» - США, Англия, Франция и Италия. Однако внутри «четверки» возникла «тройка». Принялась интриговать против Италии. Ее предложения отвергались настолько откровенно, что итальянский премьер-министр Орландо вообще покинул заседания. Но внутри оставшейся «тройки» существовала «двойка». США и Англия исподволь копали под интересы Франции. Старались не допустить ее усиления. А внутри “двойки” лидировал Вильсон. Он чувствовал себя настоящим верховным арбитром, задавал тон. Немцев, австрийцев, венгров, болгар, турок беспардонно обманули. При подписании перемирий как бы подразумевалось, что условия капитуляции уже названы. На мирной конференции их предстоит только уточнить и юридически оформить. Но когда эта конференция открылась, державы Антанты предъявили другие условия, гораздо более жесткие. Побежденные взвыли, но деваться им теперь было некуда – они уже распускали свои вооруженные силы, сдали пограничные крепости, перевели флот на британские базы. К тому же, оказались настолько взбаламучены внутренними потрясениями, что об отказе и возобновлении войны даже думать не приходилось. Невзирая на заверения Вильсона, что война ведется только с монархиями, а не с народами, пострадать предстояло именно народам. Болгарию по Нейискому договору территориально обкорнали, обложили огромными репарациями, заставили распустить армию. На Турцию наложили “режим капитуляций”, фактически лишая ее суверенитета. От нее отчленили страны Ближнего Востока, Аравию, Ирак, а остальные области поделили на зоны оккупации. Австро-Венгрию разобрали на части - Австрию, Венгрию, Чехословакию. Польские, балканские, украинские области раздали другим государствам. Ну а Германию объявили главной виновницей войны. Она потеряла все свои колонии и восьмую часть собственной территории. Ей запрещалось строить флот, создавать авиацию, химические войска, иметь военные академии и высшие училища. Армию разрешалось содержать не более 100 тыс. человек, причем профессиональную, чтобы немцы не смогли накопить обученных резервистов (как видим, профессиональная армия, о которой столь глубокомысленно разглагольствуют нынешние российские либералы, считалась не шагом к повышению обороноспособности, а, напротив, к ее снижению, навязывалась в качестве наказания). Германию обязали выплатить гигантские репарации в 132 млрд. золотых марок, что толкало ее в экономическую зависимость от держав Антанты. В качестве залога Саарская область была оккупирована французами. А область вдоль Рейна объявлялась демилитаризованной, там запрещалось располагать немецкие войска. Наряду с побежденными государствами властители Антанты самозабвенно кроили и недавнюю союзницу – Россию! Решали судьбы Средней Азии, Дальнего Востока, Севера. Заявляли о поддержке отделившихся от России национальных новообразований: Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии, Армении, Азербайджана, северокавказских сепаратистов, петлюровской Украины. Между прочим, именно в Версале по инициативе Вильсона было впервые принято предложение о передаче в состав Украины Крыма, раньше он никогда украинцам не принадлежал. Ну а среди победителей плоды выигрыша распределились крайне неравномерно. Сербию, сильно пострадавшую и понесшую большие потери, вознаградили чрезвычайно щедро. Ей передали области хоть и славянские, но совершенно разные по своим историческим судьбам, традициям, культуре – Хорватию, Словению, Боснию, Герцоговину, Македонию, объединили с союзной Черногорией. В результате возникло Королевство сербов-хорватов-словенцев, позже Югославия. А Бельгия тоже пострадала очень сильно и сражалась героически, но для нее ограничились лишь микроскопическими территориальными прирезками. Румыния проявила себя полным нулем в военном отношении, проституировала, перекидываясь то на сторону Антанты, то Германии. Невзирая на это, ее уважили (возможно, из-за того, что Румыния была неприкрытым оплотом масонства). Отдали ей и австро-венгерскую Трансильванию, и российскую Бессарабию. Территория Румынии увеличилась аж в три раза! Была воссоздана Польша, ее скомпоновали из германских, австро-венгерских, российских областей. Италии за вступление в войну наобещали очень много, но не дали почти ничего. Франция вернула ранее утраченные Эльзас и Лотарингию, получила в подмандатное управление Сирию с Ливаном и часть Турции. А вот Англия себя не обидела. Хапнула под свой мандат все германские колонии в Африке, Ирак, Трансиорданию, Палестину. Что же касается Америки, то ее территориальные приобретения вообще не интересовали. Нет, Вильсон рассчитывал на большее. На гораздо большее! С одной стороны, по его настоянию в мирный договор был внесен пункт о “свободе торговли” и “снятии таможенных барьеров”. Государства, ослабленные войной, конкурировать с США не могли. Этот пункт означал экономическое и торговое господство американцев. Но оно должно было дополниться и политическим. Вильсон писал: “Америка призвана модернизировать политику Запада”. “Экономическая мощь американцев столь велика, что союзники должны будут уступить американскому давлению и принять американскую программу мира. Англия и Франция не имеют тех же самых взглядов на мир, но мы сможем заставить их думать по-нашему”. Для такой “модернизации политики» решением Версальской конференции было создано первое “мировое правительство” – Лига Наций. Америке предстояло занять в нем ведущую роль, причем сделать это предполагалось пропагандой “демократических ценностей”. Поставить их во главу угла, провозгласить приоритетом всей международной политики. Для этого США широко тиражировали версию, что война со всеми ее жертвами разразилась из-за «агрессивности абсолютизма», из-за несовершенства европейских государственных систем. Избежать подобных катастроф в будущем можно только утверждением «подлинной демократии». Таким образом, Америка выдвигались на роль мирового учителя демократии, мирового гаранта демократии – и мирового арбитра. Она получала возможность влезать во внутренние дела других государств, оценивать, какое из них “демократично”, а какое недостаточно. Читай – опасно для мирового сообщества, таит угрозу развязывания новых войн. Как раз для таких целей, по мысли Вильсона и Хауса, предназначалась Лига Наций. Кстати, сам Вильсон был фанатичным протестантом. Это ничуть не мешало ему выступать ставленником крупнейших финансовых и промышленных магнатов США, реализовывать разработанные ими решения. Но и магнатам его религиозные убеждения не мешали. Тузы Уолл-стрита регулировали Вильсона как раз через Хауса, президент видел в нем мудрейшего советника и считал личным другом. А Хаус отлично научился играть на особенностях его мировоззрения. Внушал, что Вильсону предназначена поистине «мессианская» роль спасения Америки и всего мира, льстиво называл его “апостолом свободы”. Президенту нравилось. Он сам верил в свое исключительное предназначение. Ведь казалось бы, его ведет «само Провидение»! Успехи на выборах в США, а потом и на международной арене, блестящий выигрыш в войне. Небывалое, доселе немыслимое для американцев, возвышение, возможность распоряжаться судьбами всего мира!... Но в 1919 г. достичь мирового господства Америке еще не удалось. Вместо этого вдруг грянула катастрофа для самого Вильсона. Да, финансово-политическая «закулиса» США в ходе Первой мировой набрала огромную силу. Но в данное время и европейская «закулиса» сохраняла более чем весомое могущество. Она была старее, опытнее американской. А британские, французские, бельгийские, голландские, швейцарские, итальянские олигархи вовсе не для того крушили соперницу-Германию и помогали обрушить Россию, чтобы получить диктат со стороны США. Вильсон, Хаус и стоявшие за ними теневые круги были уверены, что хитро переиграли всех. Однако на самом-то деле обставили их самих. Америку вовлекли в войну, она сыграла свою роль. После этого конкуренты сочли, что ее снова надо бы удалить из европейской политики. Под Вильсона подвели мину. Не в Европе, где он считал себя всесильным, а у него на родине, в США. Это было совсем не трудно. В 1916 г., чтобы добиться избрания президентом на второй срок, его команда вовсю завлекала обывателей лозунгом “Вильсон уберег Америку от войны”! А почти сразу же после победы на выборах президент вступил в войну. Сограждане еще не забыли столь откровенный обман. Очень весомые поводы для обвинений дали условия Версальского мира. Получалось, что англичане, французы, сербы, румыны, поляки, чехи получили реальные и осязаемые приобретения, а США? Выигрыш от “свободы торговли” и создания Лиги Наций был для рядовых американцев непонятен. Да этот выигрыш и не касался рядовых! Выходило – десятки тысяч парней погибли или были искалечены за чужие, ненужные американцам интересы… Европейской «закулисе» осталось подогреть и подпитать американскую оппозицию, и в США против Вильсона стала раскручиваться мощная кампания. Ему ставили в вину отход от традиционной политики изоляционизма, военные издержки и потери. Предсказывали, что в случае продолжения политики Вильсона, Америке снова придется решать чьи-то чужие проблемы, а не собственные, тратить на это средства, нести жертвы. Положение усугубилось тем, что наметилась трещина между президентом и его опорой! Финансовыми тузами Уолл-стрита. «Мессианская роль» вскружила голову Вильсону, он стал считать, будто и в самом деле творит “волю Божью”. Начал выходить из-под контроля «закулисы». А в разгар кризиса, в ходе скандалов и разоблачений, которые посыпались на его голову, Вильсон вдруг прозрел. Понял, что им откровенно манипулировали. Он обиделся на Хауса, порвал отношения со своим “серым кардиналом”. После чего окончательно утратил поддержку банкирской касты. Сенат США отказался ратифицировать Версальский договор, отверг вступление в Лигу Наций. От Вильсона отвернулись обе ведущих американских партии, и республиканская, и демократическая. Однако президент все еще верил в свою “избранность” и пошел на беспрецедентный шаг. Решил напрямую обратиться к американскому народу через головы сената, политических партий, минуя поливающие его грязью средства массовой информации. Стал на поезде ездить по США и произносить речи, доказывая правильность своей линии. За три недели он проехал от Вашингтона до Сиэтла, выступив в десятках городов. Но не выдержал такого напряжения. Вильсона хватил удар и разбил паралич. В Лиге Наций стала заправлять «старая», европейская «закулиса». Бесцеремонно обеспечивала собственные выгоды, как она их понимала. Британская колониальная империя достигла в это время максимального размаха. Париж превратился в подобие «мировой столицы» - центр международной политики, интриг, а заодно и разврата. Крушились последние барьеры нравственности: победителям хотелось сполна насладиться достигнутым положением и прибылями. По всем странам Западной, Центральной, Южной Европы торжествовали демократические и либеральные правительства. Это вылилось в такое воровство и хищничество, что повсюду стали плодиться оппозиционные партии. С одной стороны, коммунистические. С другой, фашистские. Ну а американская «закулиса» извлекла уроки из своей неудачи и начала готовить вторую попытку. Организовала пару кризисов, разоряя мелких и средних предпринимателей, как и «независимых» банкиров, противившихся глобальным замыслам. Сосредоточила в своих руках львиную долю капиталов, а значит и реальную власть. А в Европе американские денежные мешки принялись исподтишка финансировать еще малоизвестного, но весьма энергичного деятеля. Гитлера. Предназначили ему роль парового катка. Раздавить «Старый Свет», разорить его новой войной, и тогда-то расчистится поле деятельности для строительства американского «порядка»… Валерий Шамбаров  ertata Тэги: версальский, вов., военная, война, геополитика, геополитика., господство, договор, европы, европы., запад, зла, зла., империя, интересное., история, история., итоги, мирный, мировая, мировое, мировой, непознанное., новости., первая, первой, план, политика, политика,, разное., россия, события., сша, сша-империя, хауса 2013: скандалы в американском здравоохранении.2014-01-15 16:57:56 Махинации со страховкой; недобросовестность санитаров, в отношении лиц с ограниченными возможностями; эпидемии, вспыхнувшие из-за преступной халатности медиков; насилие и пытки в тюрьмах ЦРУ, санкционированные врачами и т.д. и т.п. Приведенные ниже факты убедительно свидетельствуют, что отдаваться в руки американских врачей – огромный риск. 1. Трафик душевнобольных Весной стало известно, что в течение пяти лет врачи из Rawson-Neal Psychiatric Hospital в Неваде, вместо того чтобы лечить пациентов, сажали их на рейсовый автобус и отправляли в другие штаты. Таким образом, было сбагрено полторы тысячи душевнобольных. Кульминации порочная практика достигла в 2012 году, когда по 176 различным маршрутам в 45 штатов США было отправлено порядка 400 человек. Теперь врачи уверяют, что подобная терапия помогала американцам найти путь домой после визита в блистательный Лас-Вегас, который, дескать, может временно лишить разума даже самых уравновешенных людей. Впрочем, конкретные случаи показывают, что это объяснение не выдерживает никакой критики. Например, в феврале некий Джеймс Браун был отправлен на автобусе в Сакраменто - город, где он никого не знал и никогда ранее не был. Он прибыл туда без денег и удостоверения личности, вследствие чего не мог получить ни жилья, ни лекарств. Совершив попытку суицида, он привлек внимание социальных служб, которые в свою очередь, раскрутили маховик скандала… Ряд похожих случаев также опровергают версию врачей об эдакой своеобразной «туристической терапии». «Мой тесть Акоп Мурадян попытался вскрыть себе вены в отеле Лас-Вегаса. Его забрали в Rawson-Neal, где продержали около месяца, а затем, не поставив в известность родственников, посадили в автобус, дали пятидневный медицинский пакет и отправил в город Глендейл, штат Калифорния, – пишет один из посетителей интернет-сайта «Желтые страницы Лас-Вегаса». – После того, как лекарство закончилось, Мурадян покончил с собой». Скандал разгорается, при этом топ-менеджеры психушки перекладывают ответственность на власти Невады, утверждая, что подобная практика началась лишь, когда им существенно урезали финансирование на стационарное лечение… 2. Менингит из аптеки К середине марта уже 48 человек умерли, в то время как 720 были прикованы к больничным койкам с диагнозом «грибковый менингит». Эта жуткая статистика стала апофеозом вспышки заболевания, начало которой было зарегистрировано в США в октябре 2012 года. Тогда Центры по контролю и профилактике заболеваний различных штатов отследили вирусные загрязнения в препарате, используемом для инъекции анестезии при спинной боли. Однако, к этому моменту он уже поступил в 75 медицинских учреждений 23 штатов, и дозы были введены 14000 пациентов. Те, в свою очередь, начали сообщать о симптомах… В итоге вспышка менингита охватила 19 штатов. Более того, у некоторых пациентов, восстановившихся после болезни, возникали вторичные поражения в месте инъекции. К январю 2013 года против поставщика препарата – аптечной компании NECC – было подано уже более 400 исков. Между тем, следствие установило, что препараты готовились в антисанитарных условиях и отгружались заказчикам, до появления окончательных результатов тестирования. Впрочем, стоит отметить, что в США подобная ситуация возникает не впервые. Как пишет газета Washington Post, фармацевтические компании Amgen и Johnson & Johnson годами внедряли на американский рынок дорогостоящие лекарства от анемии, которые не только не улучшали состояние больных, но еще и способствовали возникновению у них рака и других тяжелых заболеваний. 3. Серийный инфектор В декабре 34-летний медработник Дэвид Квятковски был приговорен к 39 годам тюремного заключения. По словам одного из прокуроров, по сути, «он организовал эпидемию в восьми штатах страны». Четыре года Квятковски колесил по США, нанимаясь на работу в различные больницы. При этом, в каком бы медучреждении преступник не задерживался, он везде оставлял после себя людей, зараженных вирусом гепатита С. Дело в том, что Квятковски, будучи наркоманом, воровал у пациентов сильнодействующие обезболивающие препараты, делал себе инъекции, а затем вновь наполнял шприцы, подготавливая их для уколов тем, кому они и были назначены. Он делал это, зная, что сам инфицирован гепатитом С и, что этот вирус передается через кровь. Наконец, в мае 2012 года несколько необъяснимых случаев заражения взбудоражили одну из больниц штата Нью-Гемпшир. Вскоре расследование перекинулось и на другие штаты. Региональные Центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендовали пройти тестирование 12000 пациентов. Анализ показал положительный результат на гепатит С у 45 человек. (Один из них к настоящему времени скончался). Гепатит также был обнаружен у самого Квятковски и трех его коллег. Но именно то, что «наш герой» засветился в других больницах, где были зарегистрированы необъяснимые заражения, стало решающей уликой и агенты ФБР предъявили ему обвинение. Как отметил прокурор США Джона Касавас, «приговор, вынесенный Квятковски, гарантирует, что серийный инфектор больше не сможет причинить вред невинным и уязвимым людям». Вместе с тем, Касавас с сожалением признал, что судебный процесс «повысил уровень осведомленности общества о проблеме утечки наркотиков в медицинских учреждениях» и, что «вынесенный приговор не вернет жертвам преступника утраченного здоровья». 4. Мучители Гуантанамо В ноябре в США был опубликован доклад под названием «Отказ от этики: профессионализм медиков и насилие над заключенными в ходе «Войны с террором». В исследованиях принимали участие два десятка уважаемых экспертов. В течение двух лет они изучали рассекреченные протоколы Гуантанамо, а также тюрем ЦРУ и Пентагона в Афганистане и Ираке… Как следует из доклада комиссии, врачи армии США, перешагнув через клятву Гиппократа, давали согласие на пытки предполагаемых террористов в американских военных тюрьмах, а порой даже лично принимали в них участие. В том числе, в докладе подчеркивается, что «медики по требованию сотрудников ЦРУ или Министерства обороны США причиняли тяжелые страдания заключенным». Таким образом, в первые десять лет после терактов 9/11, американские военные врачи, психиатры и психологи участвовали в создании системы «жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинства обращения с заключенными», действуя по указанию военачальников и двух президентов США – Джорджа Буша и Барака Обамы. В докладе говорится, что американские «врачи советовали военным, как лучше проводить пытки утоплением, лишением сна и сенсорной перегрузкой», якобы, для того, чтобы получить информацию или признание своей вины от заключенных, подозреваемых в терроризме. 5. Раковый корпус В октябре некий Мартин Пол Бин был приговорен к двум годам лишения свободы. Он продавал американским врачам наркотики для раковых больных, якобы, изготовленные в США, в соответствии с законами страны. На самом же деле они прибывали из-за рубежа в Калифорнию, где заново упаковывались и незаконно отправлялись в различные штаты. Специальный агент ФБР Брэд Гудшол говорит, что расследование выявило более пятидесяти врачей, вовлеченных в схему, позволявшую им экономить до 30% от стоимости наркотических препаратов, утвержденных федеральным Управлением по продовольствию и медикаментам (FDA). За шесть лет Бин незаконно продал препаратов более чем на 7 млн. долларов. Остается только догадываться, скольких американских жизней это стоило. «Вы ждете от врачей, что они будут лечить вас, а не сознательно подвергать каким-либо опасностям. Но когда врачи используют препараты, которые не были одобрены FDA, никто не знает, что вы получаете: это ставит здоровье пациента под угрозу», - сокрушается Гудшол. Другой подобный случай не оставляет его фигуранту никаких шансов на снисхождение. В сентябре агенты ФБР арестовали 48-летнего врача Фарида Фату из Мичигана. Прокурор США Барбара Маккуэйд обвинила его в мошенничестве. Стремясь получить средства по программам медицинской страховке, жадный доктор направлял своих раковых пациентов в стадии ремиссии на дополнительные абсолютно ненужные сеансы химиотерапии. Таким образом, за годы «карьеры» он заработал аж 35 миллионов долларов. Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы. Стрингерское Бюро Международных Расследований.  ertata Тэги: американская, американском, заграница, заграница., здоровье., здравоохранение, здравоохранение., здравоохранении, зла, зла., империя, интересное., медицина, непознанное., новости, рубежом, скандалы, сша, сша-империя Русский литературный анекдот 18 - начала 19 веков.2014-01-11 20:47:30 Е. И. Костров Талантливый переводчик Гомеровой «Илиады» Е. И. Костров был большой чудак и горький пьяница. Все старания многочисленных друзей и покровителей поэта удержать его от этой пагубной страсти постоянно оставались тщетными. Императрица Екатерина II, прочитав перевод «Илиады», пожелала видеть Кострова и поручила И. И. Шувалову привезти его во дворец. Шувалов, которому хорошо была известна слабость Кострова, позвал его к себе, велел одеть на свой счет и убеждал непременно явиться к нему в трезвом виде, чтобы вместе ехать к государыне. Костров обещал; но когда настал день и час, назначенный для приема, его, несмотря на тщательные поиски, нигде не могли найти. Шувалов отправился во дворец один и объяснил императрице, что стихотворец не мог воспользоваться ее милостивым вниманием по случаю будто бы приключившейся ему внезапной и тяжкой болезни. Екатерина выразила сожаление и поручила Шувалову передать от ее имени Кострову тысячу рублей. Недели через две Костров явился к Шувалову. — Не стыдно ли тебе, Ермил Иванович,— сказал ему с укоризною Шувалов,— что ты променял дворец на кабак? — Побывайте-ка, Иван Иванович, в кабаке,— отвечал Костров,— право, не променяете его ни на какой дворец!  Раз, после веселого обеда у какого-то литератора, подвыпивший Костров сел на диван и опрокинул голову на спинку. Один из присутствующих, молодой человек, желая подшутить над ним, спросил: — Что, Ермил Иванович, у вас, кажется, мальчики в глазах? — И самые глупые,— отвечал Костров.  Однажды в университете сделался шум. Студенты, недовольные своим столом, разбили несколько тарелок и швырнули в эконома несколькими пирогами. Начальники, разбирая это дело, в числе бунтовщиков нашли бакалавра Ермила Кострова. Все очень изумились. Костров был нраву самого кроткого, да уж и не в таких летах, чтоб бить тарелки и швырять пирогами. Его позвали в конференцию. — Помилуй, Ермил Иванович,— сказал ему ректор,— ты-то как сюда попался?.. — Из сострадания к человечеству,— отвечал добрый Костров.  Он жил несколько времени у Ивана Ивановича Шувалова. Тут он переводил «Илиаду». Домашние Шувалова обращались с ним, почти не замечая его в доме, как домашнюю кошку, к которой привыкли. Однажды дядя мой пришел к Шувалову и, не застав его дома, спросил: «Дома ли Ермил Иванович?» Лакей отвечал: «Дома; пожалуйте сюда!» — и привел его в задние комнаты, в девичью, где девки занимались работой, а Ермил Иванович сидел в кругу их и сшивал разные лоскутки. На столе, возле лоскутков, лежал греческий Гомер, разогнутый и обороченный вверх переплетом. На вопрос: «Чем он это занимается?» — Костров отвечал очень просто: «Да вот девчата велели что-то сшить!» — и продолжал свою работу.  Костров хаживал к Ивану Петровичу Бекетову, двоюродному брату моего дяди. Тут была для него всегда готова суповая чаша с пуншем. С Бекетовым вместе жил брат его Платон Петрович; у них бывали: мой дядя Иван Иванович Дмитриев, двоюродный их брат Аполлон Николаевич Бекетов и младший брат Н. М. Карамзина Александр Михайлович, бывший тогда кадетом и приходивший к ним по воскресеньям. Подпоивши Кострова, Аполлон Николаевич ссорил его с молодым Карамзиным, которому самому было это забавно; а Костров принимал эту ссору не за шутку. Потом доводили их до дуэли; Карамзину давали в руки обнаженную шпагу, а Кострову ножны. Он не замечал этого и с трепетом сражался, боясь пролить кровь неповинную. Никогда не нападал, а только защищался.  Светлейший князь Потемкин пожелал видеть Кострова. Бекетовы и мой дядя принуждены были, по этому случаю, держать совет, как его одеть, во что и как предохранить, чтоб не напился. Всякий уделил ему из своего платья кто французский кафтан, кто шелковые чулки, и прочее. Наконец при себе его причесали, напудрили, обули, одели, привесили ему шпагу, дали шляпу и пустили идти по улице. А сами пошли его провожать, боясь, чтоб он, по своей слабости, куда-нибудь не зашел; но шли за ним в некотором расстоянии, поодаль, для того, что идти с ним рядом было несколько совестно: Костров и трезвый был нетверд на ногах и шатался. Он во всем этом процессе одеванья повиновался, как ребенок. Дядя мой рассказывал, что этот переход Кострова был очень смешон. Какая-нибудь старуха, увидев его, скажет с сожалением: «Видно, бедный, больнехонек!» А другой, встретясь с ним, пробормочет: «Эк нахлюстался!» Ни того, ни другого: и здоров и трезв, а такая была походка! Так проводили его до самых палат Потемкина, впустили в двери и оставили, в полной уверенности, что он уже безопасен от искушений!  Костров страдал перемежающейся лихорадкою. «Странное дело,— заметил он (Н. М. Карамзину),— пил я, кажется, все горячее, а умираю от озноба».  Д. Е. Цицианов Он (Д. Е. Цицианов) преспокойно уверял своих собеседников, что в Грузии очень выгодно иметь суконную фабрику, так как нет надобности красить пряжу: овцы родятся разноцветными, и при захождении солнца стада этих цветных овец представляют собой прелестную картину.  Случилось, что в одном обществе какой-то помещик, слывший большим хозяином, рассказывал об огромном доходе, получаемом им от пчеловодства, так что доход этот превышал оброк, платимый ему всеми крестьянами, коих было с лишком сто в той деревне. — Очень вам верю,— возразил Цицианов,— но смею вас уверить, что такого пчеловодства, как у нас в Грузии, нет нигде в мире. — Почему так, Ваше Сиятельство? — А вот почему,— отвечал Цицианов,— да и быть не может иначе: у нас цветы, заключающие в себе медовые соки, растут, как здесь крапива, да к тому же пчелы у нас величиною почти с воробья; замечательно, что когда они летают по воздуху, то не жужжат, а поют, как птицы. — Какие же у вас ульи, Ваше Сиятельство? — спросил удивленный пчеловод. — Ульи? Да ульи,— отвечал Цицианов,— такие же, как везде. — Как же могут столь огромные пчелы влетать в обыкновенные ульи? Тут Цицианов догадался, что, басенку свою пересоля, он приготовил себе сам ловушку, из которой выпутаться ему трудно. Однако же он нимало не задумался: — Здесь об нашем крае,— продолжал Цицианов,— не имеют никакого понятия... Вы думаете, что везде так, как в России? Нет, батюшка! У нас в Грузии отговорок нет: ХОТЬ ТРЕСНИ, ДА ПОЛЕЗАЙ!  Мой дядя Россет раз спросил его (он был тогда пажем), правда ли, что он (Д. Е. Цицианов) проел тридцать тысяч душ? Старик рассмеялся и ответил: «Да, только в котлетах». Мальчик широко раскрыл глаза и спросил: «Как — в котлетах?» — Глупый! Ведь оне были начинены трюфелями, а барашков я выписывал из Англии, и это, оказалось, стоит очень дорого.  Говорил он (Д. Е. Цицианов) о каком-то сукне, которое он поднес князю Потемкину, вытканное по заказу его из шерсти одной рыбы, пойманной им в Каспийском море.  Князь Цицианов, известный поэзиею рассказов, говорил, что в деревне его одна крестьянка разрешилась от долгого бремени семилетним мальчиком, и первое слово его, в час рождения, было: «Дай мне водки!»  Забыл было сказать ложь кн. Д. Е. Цицианова. Горич нашел в каменной горе у Моздока бутылку с водою, и стекло так тонко, что гнется, сжимается и опять расправляется, и он заключил, что эта бутылка должна быть из тех, кои употребляли Помпеевы солдаты, хотя римляне и никогда в сем краю не были. А доказательство Цицианова было то, что подобные сей бутылке сосуды есть в завалинах Геркулана и Помпеи.  В трескучий мороз идет он (Д. Е. Цицианов) по улице. Навстречу ему нищий, весь в лохмотьях, просит у него милостыни. Он в карман, ан нет денег. Он снимает с себя бекешу на меху и отдает ее нищему, сам же идет далее. На перекрестке чувствует он, что кто-то ударил его по плечу. Он оглядывается, Господь Саваоф пред ним и говорит ему: «Послушай, князь, ты много согрешил, но этот поступок твой один искупит многие грехи твои. Поверь мне, я никогда не забуду его!»  Между прочими выдумками Цицианов рассказывал, что за ним бежала бешеная собака и слегка укусила его в икру. На другой день камердинер прибегает и говорит: — Ваше Сиятельство, извольте выйти в уборную и посмотрите, что там творится. — Вообразите, мои фраки сбесились и скачут.  Цицианов любил также выхвалять талант дочери своей в живописи, жалуясь всегда на то, что княжна на произведениях отличной своей кисти имела привычку выставлять имя свое, а когда спрашивали его, почему так, то он с видом довольным отвечал: «Потому что картины моей дочери могли бы слыть за Рафаэлевы, тем более что княжна любила преимущественно писать Богородиц и давала ей и маленькому Спасителю мастерские позы».  Есть лгуны, которых совестно называть лгунами: они своего рода поэты, и часто в них более воображения, нежели в присяжных поэтах. Возьмите, например, князя Цицианова. Во время проливного дождя является он к приятелю. — Ты в карете? — спрашивают его. — Нет, я пришел пешком. — Да как же ты вовсе не промок? — О,— отвечает он,— я умею очень ловко пробираться между каплями дождя.  Князь Потемкин меня любил (рассказ ведется от имени Д. Е. Цицианова) именно за то, что я никогда ни о чем не просил и ничего не искал. Я был с ним на довольно короткой ноге. Случилось один раз, разговаривая (не помню, у кого это было, ну да все равно) о шубах, сказал, что он предпочитает медвежьи, но что они слишком тяжелы, жалуясь, что не может найти себе шубы по вкусу. — А что бы вам давно мне это сказать, светлейший князь: вот такая же точно страсть была у моего покойного отца, и я сохраняю его шубу, в которой нет, конечно, трех фунтов весу. (Все слушатели рассмеялись.) — Да чему вы обрадовались? — возразил Цицианов.— Будет вам еще чему посмеяться, погодите, дослушайте меня до конца. И князь Потемкин тоже рассмеялся, принимая слова мои за басенку. Ну а как представлю я Вашей Светлости,— продолжал Цицианов,— шубу эту? — Приму ее от тебя, как драгоценный подарок,— отвечал мне Таврический. Увидя меня несколько времени спустя, он спросил меня тотчас: — Ну что, как поживает трехфунтовая медвежья шуба? — Я не забыл данного вам, светлейший князь, обещания и писал в деревню, чтоб прислали ко мне отцовскую шубу. Скоро явилась и шуба. Я послал за первым в городе скорняком, велел ее при себе вычистить и отделать заново, потому что этакую редкость могли бы у меня украсть или подменить. Ну, слушайте, не то еще будет, вот завертываю я шубу в свой носовой шелковый платок и отправляюсь к светлейшему князю. Это было довольно: меня там все знали. — Позвольте, Ваше Сиятельство,— говорит мне камердинер,— пойду только посмотреть, вышел ли князь в кабинет, или еще в спальной. Он нехорошо изволил ночь проводить. Возвращается камердинер и говорит мне: — Пожалуйте! Я вошел, гляжу: князь стоит перед окном, смотрит в сад; одна рука была во рту (светлейший изволил грызть ногти), а другою рукою чесал он... Нет, не могу сказать что, угадывайте! Он в таких был размышлениях или рассеянности, что не догадался, как я к нему подошел и накинул на плечи шубу. Князь, освободив правую свою руку, начал по стеклу наигрывать пальцами какие-то свои фантазии. Я все молчу и гляжу на зтого всемогущего баловня, думая себе: «Чем он так занят, что не чувствует даже, что около него происходит, и чем-то дело это закончится?» Прошло довольно времени — князь ничего мне не говорит и, вероятно, забыл даже, что я тут. Вот я решился начать разговор, подхожу к нему и говорю: — Светлейший князь! Он, не оборачиваясь ко мне, но узнавши голос мой, сказал: — Ба! Это ты, Цицианов! А что делает шуба? — Какая шуба? — Вот хорошо! Шуба, которую ты мне обещал! — Да шуба у Вашей Светлости. — У меня?.. Что ты мне рассказываешь? — У вас... да она и теперь на ваших плечах! Можете представить удивление князя, вдруг увидевшего, что на нем была подлинная шуба. Он верить не хотел, что я давно накинул ему шубу на плечи. — То-то же не понимал я, отчего мне так жарко было; мне казалось, что я нездоров, что у меня жар,— повторял князь,— да это просто сокровище, а не шуба. Где ты ее выкопал? — Да я Вашей Светлости уже докладывал, что шуба эта досталась мне после моего отца. — Диковинная!.. Однако посмотри: она мне только по колено. — Чему тут дивиться. Я ростом невелик, а отец мой был хоть и сильный мужчина, но головою ниже меня. Вы забываете, что у Вашей Светлости рост геркулесов; что для всех людей шуба, то для вас куртка. Князя очень это позабавило, он смеялся и хотел непременно узнать, какими судьбами досталась шуба эта моему отцу. Я рассказал ему всю историю: как шуба эта была послана из Сибири, как редкость, графу Разумовскому в царствование императрицы Елизаветы Петровны, как дорогою была украдена разбойниками и продана шаху Персидскому, который подарил ее моему отцу. Князь удивился, что нет теперь таких шуб, но я ему объяснил, что был в Сибири мужик, который умел так искусно обделывать медвежьи меха, что они делались нежнее и легче соболиных, но мужик этот умер, не открыв никому секрета.  Вариант. Императрица Екатерина отправляет Д. Е. Цицианова курьером в Молдавию к князю Потемкину с собольей шубой... Он приехал, подал Потемкину письмо императрицы. Прочитав его, князь спрашивает: — А где шуба? — Здесь, Ваша Светлость. И тут вынимает он из своей курьерской сумки шубу, которая так легка была, что уложилась в виде носового платка. Он встряхнул ее и подал князю.  Вариант. Я был, говорил Д. Е. Цицианов, фаворитом Потемкина. Он мне говорит: — Цицианов, я хочу сделать сюрприз государыне, чтобы она всякое утро пила кофий с горячим калачом. — Готов, Ваше Сиятельство. . Вот я устроил ящик с комфоркой, калач уложил и помчался, шпага только ударяла по столбам (верстовым) все время тра, тра, тра, и к завтраку представил собственноручно калач. Изволила благодарить и послала Потемкину шубу. Я приехал и говорю: — Ваше Сиятельство, государыня в знак благодарности прислала вам соболью шубу, что ни на есть лучшую. — Вели же открыть сундук. — Не нужно, она у меня за пазухой. Удивился князь. Шуба полетела как пух, и поймать ее нельзя было.  Дмитрий Евсеевич Цицианов завел Английский клуб в Москве и очень его посещает. Он всех смешил своими рассказами, уверял, что варит прекрасный соус из куриных перьев и что по окончании обеда всех будет звать петухами и курицами.  Когда воздвигали Александровскую колонну, Д. Е. Цицианов сказал одному из моих братьев: «Какую глуную статую поставили — ангела с крыльями; надобно представить Александра в полной форме и держит Нанолеошку за волосы, а он только ножками дрыгает». Громкий смех последовал за этой тирадой.  Царствование Павла 1 Первого Жесточайшую войну объявил император круглым шляпам, оставив их только при крестьянском и купеческом костюме. И дети носили треугольные шляпы, косы, пукли, башмаки с пряжками. Это, конечно, безделицы, но они терзали и раздражали людей больше всякого притеснения. Обременительно еще было предписание едущим в карете, при встрече особ императорской фамилии, останавливаться и выходить из кареты. Частенько дамы принуждены были ступать прямо в грязь. В случае неисполнения, карету и лошадей отбирали в казну, а лакеев, кучеров, форейторов, наказав телесно, отдавали в солдаты. К стыду тогдашних придворных и сановников, должно признать, что они, при исполнении, не смягчали, а усиливали требования и наказания. Однажды император, стоя у окна, увидел идущего мимо Зимнего дворца и сказал, без всякого умысла или приказания: «Вот идет мимо царского дома и шапки не ломает». Лишь только узнали об этом замечании государя, последовало приказание: всем едущим и идущим мимо дворца снимать шапки. Пока государь жил в Зимнем дворце, должно было снимать шляпу при выходе на Адмиралтейскую площадь с Вознесенской и Гороховой улиц. Ни мороз, ни дождь не освобождали от этого. Кучера, правя лошадьми, обыкновенно брали шляпу или шапку в зубы. Переехав в Михайловский замок, т. е. незадолго до своей кончины, Павел заметил, что все идущие мимо дворца снимают шляпы, и спросил о причине такой учтивости. «По высочайшему Вашего Величества повелению»,— отвечали ему. «Никогда я этого не приказывал!» — вскричал он с гневом и приказал отменить новый обычай. Это было так же трудно, как и ввести его. Полицейские офицеры стояли на углах улиц, ведущих к Михайловскому замку, и убедительно просили прохожих не снимать шляп, а простой народ били за это выражение верноподданнического почтения.  Мало ли что предписывалось и исполнялось в то время: так, предписано было не употреблять некоторых слов,— например, говорить и писать государство вместо отечество; мещанин вместо гражданин; исключить вместо выключить. Вдруг запретили вальсовать или, как сказано в предписании полиции, употребление пляски, называемой валъсеном. Вошло было в дамскую моду носить на поясе и чрез плечо разноцветные ленты, вышитые кружками из блесток. Вдруг последовало запрещение носить их, ибо-де они похожи на орденские. Можно вообразить, какова была цензура! Нынешняя шихматовская глупа, но тогдашняя была уродлива и сопровождалась жестокостью. Особенно отличался рижский цензор Туманский, кажется, Федор Осипович, о котором я буду говорить впоследствии. Один сельский пастор в Лифляндии, Зейдер, содержавший лет за десять до того немецкую библиотеку для чтения, просил, чрез газеты, бывших своих подписчиков, чтоб они возвратили ему находящиеся у них книги, и между прочим повести Лафонтена «Сила любви». Туманский донес императору, что такой-то пастор, как явствует из газет, содержит публичную библиотеку для чтения, а о ней правительству неизвестно. Зейдера привезли в Петербург и предали уголовному суду, как государственного преступника. Палате оставалось только прибрать наказание, а именно приговорить его к кнуту и каторге. Это и было исполнено. Только генерал-губернатор граф Пален приказал, привязав преступника к столбу, бить кнутом не по спине его, а по столбу. При Александре I Зейдер был возвращен из Сибири и получил пенсию. Императрица Мария Федоровна определила его приходским священником в Гатчине. Я знал его там в двадцатых годах. Он был человек кроткий и тихий и, кажется, под конец попивал. Запьешь при таких воспоминаниях!  Покойный сенатор П. А. Обресков был при императоре Павле в качестве статс-секретаря и сопровождал императора в Казань. Там впал он в немилость и несколько дней не смел показываться на глаза императору. Наконец в какой-то торжественный день он должен был явиться во дворец. Приезжает и выбирает себе местечко в толпе, чтоб не выказаться императору. Между тем подносят кофе. Лакей, заметив Обрескова, протесняется к нему с подносом и открывает его императору, который видит его. Обресков отказывается от кофе. «Отчего ты не хочешь кофе, Обресков?» — спрашивает его император. «Я потерял вкус, Ваше Величество»,— отвечает Обресков. «Возвращаю тебе его»,— говорит Павел, и Обресков, благодаря присутствию духа, опять вошел в милость.  На маневрах Павел I послал ординарца своего И. А. Рибопьера к главному начальнику Андрею Семеновичу Кологривову с приказаниями. Рибопьер, не вразумясь, отъехав, остановился в размышлении и не знал что делать. Государь настигает, его и спрашивает: — Исполнил ли повеление? — Я убит с батареи по моей неосторожности,— отвечал Рибопьер. — Ступай за фронт, вперед наука! — довершил император.  Лекарь Вилье, находившийся при великом князе Александре Павловиче, был ошибкою завезен ямщиком на ночлег в избу, где уже находился император Павел, собиравшийся лечь в постель. В дорожном платье входит Вилье и видит пред собою государя. Можно себе представить удивление Павла Петровича и страх, овладевший Вилье. Но все это случилось в добрый час. Император спрашивает его, каким образом он к нему попал. Тот извиняется и ссылается на ямщика, который сказал ему, что тут отведена ему квартира. Посылают за ямщиком. На вопрос императора ямщик отвечал, что Вилье сказал про себя, что он анператор. «Врешь, дурак,— смеясь сказал ему Павел Петрович,— император я, а он оператор».— «Извините, батюшка,— сказал ямщик, кланяясь царю в ноги,— я не знал, что вас двое».  Зимою Павел выехал из дворца, на санках, прокататься. Дорогой он заметил офицера, который был столько навеселе, что шел, покачиваясь. Император велел своему кучеру остановиться и подозвал к себе офицера. — Вы, господин офицер, пьяны,— грозно сказал государь,— становитесь на запятки моих саней. Офицер едет на запятках за царем ни жив ни мертв. От страха. У него и хмель пропал. Едут они. Завидя в стороне нищего, протягивающего к прохожим руку, офицер вдруг закричал государеву кучеру: — Остановись! Павел, с удивлением, оглянулся назад. Кучер остановил лошадь. Офицер встал с запяток, подошел к нищему, полез в свой карман и, вынув какую-то монету, подал милостыню. Потом он возвратился и встал опять на запятки за государем. Это понравилось Павлу. — Господин офицер,— спросил он,— какой ваш чин? — Штабс-капитан, государь. — Неправда, сударь, капитан. — Капитан, Ваше Величество,— отвечает офицер. Поворотив на другую улицу, император опять спрашивает: — Господин офицер, какой ваш чин? — Капитан, Ваше Величество. — А нет, неправда, майор. — Майор, Ваше Величество. На возвратном пути Павел опять спрашивает: — Господин офицер, какой у вас чин? — Майор, государь,— было ответом. — А вот, неправда, сударь, подполковник. — Подполковник, Ваше Величество. Наконец они подъехали ко дворцу. Соскочив с запяток, офицер, самым вежливым образом, говорит государю: — Ваше Величество, день такой прекрасный, не угодно ли будет прокатиться еще несколько улиц? — Что, господин подполковник? — сказал государь,— вы хотите быть полковником? А вот нет же, больше не надуешь; довольно с вас и этого чина. Государь скрылся в дверях дворца, а спутник его остался подполковником. Известно, что у Павла не было шутки и все, сказанное им, исполнялось в точности.  Изгоняя роскошь и желая приучить подданных своих к умеренности, император Павел назначил число кушаньев по сословиям, а у служащих — по чинам. Майору определено было иметь за столом три кушанья. Яков Петрович Кульнев, впоследствии генерал и славный партизан, служил тогда майором в Сумском гусарском полку и не имел почти никакого состояния. Павел, увидя его где-то, спросил: — Господин майор, сколько у вас за обедом подают кушаньев? — Три, Ваше Императорское Величество. — А позвольте узнать, господин майор, какие? — Курица плашмя, курица ребром и курица боком,— отвечал Кульнев. Император расхохотался.  Кочетова Е. H мне рассказывала, что миссис Мэри Кеннеди ей сказывала, что она запиралась ночью с императрицей и спала у нее в комнате, потому что император взял привычку, когда у него бывала бессонница, будить ее невзначай, отчего у нее делалось сердцебиение. Он заставлял ее слушать, как он читает ей монологи из Расина и Вольтера. Бедная императрица засыпала, а он начинал гневаться. Жили в Михайловском дворце, апартаменты императора в одном конце, императрицы в другом. Наконец Кеннеди решилась не впускать его. Павел стучался, она ему отвечала: «Мы спим». Тогда он ей кричал: «Так вы спящие красавицы!» Уходил наконец и шел стучаться к двери m-me К., камер-фрау, у которой хранились бриллианты, и кричал ей: «Бриллианты украдены!» или «Во дворце пожар!». К., несколько раз поверив, потом перестала ему отпирать, и он стал ходить к часовым и разговаривать с ними. Он страшно мучился от бессонницы.,.  Великая княгиня Анна (жена Константина Павловича) разрешилась мертвым младенцем за 8 дней до этого (имеется в виду убийство Павла I), и император, гневавшийся на своих старших сыновей, посадил их с этого времени под арест, объявив, что они выйдут лишь тогда, когда поправится великая княгиня. Императрица также была под домашним арестом и не выходила. Эти неудачные роды очень огорчили императора, и он продолжал гневаться, он хотел внука!  Богатая купчиха московская поднесла императору Павлу подушку, шитую по канве с изображением овцы, и к ней приложила следующие стихи: Верноподданных отцу Подношу сию овцу Для тех ради причин, Чтоб дал он мужу чин. Государь отвечал: Я верноподданных отец, Но нету чина для овец.  Пушкин рассказывал, что, когда он служил в министерстве иностранных дел, ему случилось дежурить с одним весьма старым чиновником. Желая извлечь из него хоть что-нибудь, Пушкин расспрашивал его про службу и услышал от него следующее. Однажды он дежурил в этой самой комнате, у этого самого стола. Это было за несколько дней перед смертью Павла. Было уже за полночь. Вдруг дверь с шумом растворилась. Вбежал сторож впопыхах, объявляя, что за ним идет государь. Павел вошел и в большом волнении начал ходить по комнате; потом приказал чиновнику взять лист бумаги и начал диктовать с большим жаром. Чиновник начал с заголовка: «Указ его императорского величества» — и капнул чернилами. Поспешно схватил он другой лист и снова начал писать заголовок, а государь все ходил по комнате и продолжал диктовать. Чиновник до того растерялся, что не мог вспомнить начала приказания, и боялся начать с середины, сидел ни жив ни мертв перед бумагой. Павел вдруг остановился и потребовал указ для подписания. Дрожащий чиновник подал ему лист, на котором был написан заголовок и больше ничего. — Что ж государь? — спросил Пушкин. — Да ничего-с. Изволил только ударить меня в рожу и вышел.  У кого-то из царской фамилии, кажется у великого князя Павла Петровича, был сильный насморк. Ему присоветали помазать себе нос на ночь салом, и была приготовлена сальная свеча. С того дня было в продолжение года, если не долее, отпускаемо ежедневно из дворцовой конторы по пуду сальных свечей — «на собственное употребление его высочества».  При Павле какой-то гвардейский полковник в месячном рапорте показал умершим офицера, который отходил в больнице. Павел его исключил за смертью из списков. По несчастью, офицер не умер, а выздоровел. Полковник упросил его на год или на два уехать в свои деревни, надеясь сыскать случай поправить дело. Офицер согласился, но, на беду полковника, наследники, прочитавши в приказах о смерти родственника, ни за что не хотели его признавать живым и, безутешные от потери, настойчиво требовали ввода во владение. Когда живой мертвец увидел, что ему приходится в другой раз умирать, и не с приказу, а с голоду, тогда он поехал в Петербург и подал Павлу просьбу. Павел написал своей рукой на его просьбе: «Так как об г. офицере состоялся высочайший приказ, то в просьбе ему отказать».  По возвращении своем из персидского похода, в 1797 году, Алексей Петрович Ермолов служил в четвертом артиллерийском полку, коим командовал горький пьяница Иванов, предместник князя Цицианова (брата знаменитого правителя Грузии). Этот Иванов во время производимых им ученьев имел обыкновение ставить позади себя денщика, снабженного флягою с водкой; по команде Иванова: зелена, ему подавалась фляга, которую он быстро осушивал. Он после того обращался к своим подчиненным с следующей командой: «Физики, делать все no-старому, а новое — вздор». Рассердившись однажды на жителей города Пинска, где было нанесено оскорбление подчиненным ему артиллеристам, Иванов приказал бомбардировать город из двадцати четырех орудий, но, благодаря расторопности офицера Жеребцова, снаряды были поспешно отвязаны, и город ничего не потерпел. Пьяный Иванов, не заметивший этого обстоятельства, приказал по истечении некоторого времени прекратить пальбу; вступив торжественно в город и увидав в окне одного дома полицмейстера Лаудона, он велел его выбросить из окна.  Паж А. Д. Копьев бился об заклад с товарищами, что он тряхнет косу императора за обедом. Однажды, будучи при нем дежурным за столом, схватил он государеву косу и дернул ее так сильно, что государь почувствовал боль и гневно спросил, кто это сделал. Все в испуге. Один паж не смутился и спокойно отвечал: «Коса Вашего Величества криво лежала, я позволил себе выпрямить ее».— «Хорошо сделал,— сказал государь,— но все же мог бы ты сделать это осторожнее». Тем все и кончилось.  В другой раз Копьев бился об заклад, что он понюхает табаку из табакерки, которая была украшена бриллиантами и всегда находилась при государе. Однажды утром подходит он к столу возле кровати императора, почивающего на ней, берет табакерку, с шумом открывает ее и, взяв щепотку табаку, с усиленным фырканьем сует в нос. «Что ты делаешь, пострел?» — с гневом говорит проснувшийся государь. «Нюхаю табак,— отвечает Копьев.— Вот восемь часов что дежурю; сон начинал меня одолевать. Я надеялся, что это меня освежит, и подумал, лучше провиниться перед этикетом, чем перед служебною обязанностью».— «Ты совершенно прав,— говорит Павел,— но как эта табакерка мала для двух, то возьми ее себе».  Копьев был столько же известен в Петербурге своими остротами и проказами, сколько и худобою своей крепостной и малокормленной четверни. Однажды ехал он по Невскому проспекту, а Сергей Львович Пушкин (отец поэта) шел пешком по тому же направлению. Копьев предлагает довести его. «Благодарю,— отвечал тот,— но не могу: я спешу».  Чулков, петербургский полицмейстер, призвал А. Д. Копьева к себе, осыпал ругательствами и насмешками и наконец сказал: — Да, говорят, братец, что ты пишешь стихи. — Точно так, писывал в былое время, ваше высокородие! — Так напиши теперь мне похвальную оду, слышишь ли! Вот перо и бумага! — Слушаю, ваше высокородие! — отвечал Копьев, подошел к столу и написал: «Отец твой чулок, мать твоя тряпица, а ты сам что за птица?»  Москва была всегда обильна девицами. В Москве также проживали три или четыре сестрицы. Дом их был на улице — нет, не скажу на какой улице. Всякий день каждая из них сидела у особенного окна и смотрела на проезжающих и на проходящих, может быть выглядывая суженого. Какой-то злой шутник — может быть, Копьев — сказал о них: на каждом окошке по лепешке. Так и помню, что в детстве моем слыхал я о княжнах-лепешках. Другого имени им и не было.  Рассказывают, что известный Копьев, чтобы убедить крестьян своих внести разом ему годовой оброк, говорил им, что такой взнос будет последний, а что с будущего года станут они уплачивать все повинности и отбывать воинскую одною поставкою клюквы.  Известно, что в старые годы, в конце прошлого столетия, гостеприимство наших бар доходило до баснословных пределов. Ежедневный открытый стол на 30, на 50 человек было дело обыкновенное. Садились за этот стол кто хотел: не только родные и близкие знакомые, но и малознакомые, а иногда и вовсе не знакомые хозяину. Таковыми столами были преимущественно в Петербурге столы графа Шереметева и графа Разумовского. Крылов рассказывал, что к одному из них повадился постоянно ходить один скромный искатель обедов и чуть ли не из сочинителей. Разумеется, он садился в конце стола, и также, разумеется, слуги обходили блюдами его как можно чаще. Однажды понесчастливилось ему пуще обыкновенного: он почти голодным встал со стола. В этот день именно так случилось, что хозяин после обеда, проходя мимо него, в первый раз заговорил с ним и спросил: «Доволен ли ты?» — «Доволен, Ваше Сиятельство,— отвечал он с низким поклоном,— все было мне видно». «Русский литературный анекдот XVIII-начала XIX вв.» М., «Художественная литература», 1990 Русский литературный анекдот 18 - начала 19 веков Русский литературный анекдот 18 - начала 19 веков Русский литературный анекдот 18 - начала 19 веков  ertata Тэги: xix, xviii-, анекдот, империя, интересное, история, история., книги, книги,, культура, литература, литературный, проза,, россии, россии., российская, русская, русский, сатира, стихи, юмор, юмор-жизнь, «Операция Рачак»2014-01-09 19:07:01Как был подготовлен предлог для уже спланированной НАТО бомбардировки Югославии  В январе 1999 года мир облетела жуткая весть: сербы продолжают зверствовать в Косово, они вырезали мирных жителей в селе Рачак. Вывод был ожидаемым: сербы заслуживают сурового наказания. В роли борца за справедливость должна выступить НАТО. Что же произошло? Рачак – небольшое албанское село в двести с лишним домов недалеко от Штимля у подножья горы Езерска-Планина. В Рачаке находились 126 албанских боевиков и штаб террористической группы. Именно из Рачака постоянно совершались вылазки и нападения на полицейских. Проведение антитеррористической операции в селе полиция планировала давно, но откладывала, потому что все ее акции моментально интерпретировались как нападение на мирное население. На этот раз в правоохранительных органах знали: в селе не было мирных жителей, кроме нескольких стариков. Антитеррористическая операция против боевиков была назначена на 15 января, о чем оповестили миссию ОБСЕ, в ней участвовали 110 полицейских и небольшое армейское подразделение. Согласно плану, небольшая группа полицейских начала выдвигаться к селу в 3 часа ночи. Они прошли незаметно через Рачак и заняли первый ряд окопов, вырытых албанцами на горе за селом и пустовавший в ту ночь. Остальные ждали начала операции на дороге, ведущей в село. К утру боевики были окружены. На рассвете военные и полицейские начали выдвигаться к селу. Албанцы по тревоге хватаются за оружие и бегут к окопам, не зная, что они уже заняты сербскими полицейскими. Многие из боевиков погибли, часть сумела вернуться в Рачак, где началась перестрелка с наступавшими от дороги отрядами, после чего албанцы пытались прорваться в горы. Операция длилась до 15 часов, боевиков спаслось немного, их штаб был уничтожен, полиция была довольна результатами проведенной операции. Многие полицейские вернулись на базу, часть осталась охранять окопы, но из-за нападения пришедших на подмогу албанцев со стороны Езерска-Планины была вынуждена отойти в Урошевац. Албанцы входят в село, и здесь начинается спектакль. Все трупы выкладывают на поле, где боевых действий не происходило, 40 убитых переодевают в гражданскую одежду, а остальных увозят в Будаково и там хоронят. На следующее утро, 16 января, в селе внезапно появился руководитель Контрольной миссии ОБСЕ в Косово и Метохии американец Уильям Уокер. Он обнаружил «расправу» над мирным населением, созвал западных журналистов, запретил появляться в Рачаке сербским следователям и корреспондентам, после чего сделал заявление. «Это резня, - сообщил Уильям Уокер по телефону командующему НАТО в Европе Уэсли Кларку. - Нахожусь здесь. Могу видеть тела», Он обнаружил «горы тел» в гражданской одежде, многие из которых убиты с близкого расстояния, и этот факт на пресс-конференции для иностранных и албанских журналистов назвал «преступлением против человечности», которое совершили сербские силы полиции. Уже тогда опытные журналисты удивились, что на одежде «зверски убитых мирных жителей» нет следов от пуль и крови… А вот как описывает это событие государственный секретарь США Мадлен Олбрайт. Она услышала по радио «репортаж о настоящей резне, случившейся за восемь тысяч километров от моего дома». Уильям Уокер рассказывал журналистам: «Там много трупов, этих людей расстреляли разными способами, но большинство - практически в упор». Когда его попросили назвать виновников преступления, он без колебаний ответил: «Это сербская полиция». По его версии, «сербы начали обстрел селения за день до инцидента. После артиллерийской атаки в Рачак вошли военизированные подразделения. Они согнали женщин и детей в мечеть, забрали взрослых мужчин и увели их с собой. Позже жители села обнаружили их тела». И уже 19 января появилось следующее заявление: «Совет Безопасности ООН решительно осуждает жестокое убийство косовских албанцев в деревне Рачак в южной части Косово, Союзная Республика Югославия, 15 января 1999 года, о чем сообщила Контрольная миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Косово (КМК). Совет с глубокой обеспокоенностью отмечает, что в докладе КМК заявляется, что жертвами были гражданские лица, в том числе женщины и по меньшей мере один ребенок. Совет отмечает также заявление главы КМК о том, что ответственность за это жестокое убийство лежит на силах безопасности Союзной Республики Югославии и что в нем принимали участие одетые в форму военнослужащие Союзной Республики Югославии и сотрудники сербской специальной полиции. Совет подчеркивает необходимость проведения срочного и полного расследования фактов и неотложно призывает Союзную Республику Югославию к взаимодействию с Международным трибуналом по бывшей Югославии и КМК в целях обеспечения привлечения к суду ответственных за это лиц». Понятно, что западные средства массовой информации выносили подробности «резни» на первые полосы газет. Реальная версия событий их не интересовала, потому что не соответствовала «установкам» о «жестокости сербов». Позже прибывшие на место белорусские эксперты исследовали «место преступления» и пришли к выводу, что тела убитых людей были привезены из другого места. Затем была создана «нейтральная» международная экспертная группа финских патологоанатомов: в ее задачу входило вскрытие трупов и вынесение решения, идет ли речь о расстреле гражданских лиц или о погибших в бою террористах «Освободительной армии Косово». По их мнению, большинство убитых – военные, переодетые затем в гражданскую одежду. На пальцах многих из них были обнаружены следы пороха, пулевые отверстия найдены на телах, но не на одежде. Отчет экспертов был опубликован лишь через год. Как говорится в докладе, «в 39 случаях из 40 невозможно говорить о расстреле безоружных людей». Главный вывод: «резни» в Рачаке не было. Данные финских специалистов подтвердил и директор Института судебной медицины Гамбурга Клаус Пюшель, который изучил заключение финских патологоанатомов. По его словам, экспертиза не дала никаких свидетельств того, что убитые были мирными жителями, и, тем более, того, что они были убиты сербскими военными. Вместе с финнами работали и сербские эксперты. Специалист в области судебной медицины и непосредственный участник исследований в Рачаке профессор Вуядин Оташевич сообщил газете «Политика», что вся подробная документация о событиях в Рачаке находится в Верховном суде Сербии. В Сербии многим было ясно, что «резня в Рачаке» – хорошо срежиссированный спектакль, который должен был оправдать дальнейшее вмешательство НАТО. Албанские террористы уже устраивали провокации и ранее. В июне 1992 года, на подлете к сараевскому аэропорту Бутмир, был обстрелян вертолет с президентом Франции Франсуа Миттераном на борту. В августе того же года обстреляли само Сараево – приурочив атаку к визиту в город британского министра иностранных дел Дугласа Херда. В сентябре на подлете к Сараеву был сбит итальянский транспортный самолет, несколько дней спустя - нападение на продовольственный конвой ООН… И «свободный мир», узнав о «резне в Рачаке», уже был готов наказать руководство Югославии, югославскую армию, а вместе с ними - и весь сербский народ. В Совет Безопасности посыпались письма от Австралии, Албании, Исламской группы в ООН, выражавшие возмущение в связи «с хладнокровным убийством 45 невинных мусульман из числа гражданского населения», которое следует рассматривать как проявление «этнической чистки в Косово». Россия в совместном заявлении с США также возмутилась убийством албанцев, «которому нет никакого оправдания», упомянула и грозящую краю «гуманитарную катастрофу». Повод для того, чтобы «наказать» сербов, на Западе получили, и склоняли его на все лады. Мадлен Олбрайт начала действовать. Она попросила Уэсли Кларка и генерала Клауса Наумана, председателя военного комитета НАТО, отправиться в Белград и потребовать от Слободана Милошевича прекратить насилие. Сербскому лидеру напомнили о том, что угроза Североатлантического блока о вооруженном вмешательстве остается в силе. Затем М. Олбрайт начала звонить министрам иностранных дел стран-членов НАТО и предложила, чтобы альянс пересмотрел свои планы, касающиеся нанесения ударов. Представитель США в НАТО Александр Вершбоу не один месяц неустанно твердил, что блок, в конечном счете, будет вынужден применить силу, чтобы помешать С. Милошевичу и дальше терроризировать население Косово. План государственного секретаря был прост: бомбардировки уже «стояли в графике», однако предварительно следовало продемонстрировать добрую волю Запада к переговорам. И – неуступчивость «коварных сербов». При этом лучше было бы создать такую ситуацию, в которой сербы вообще отказались бы участвовать в переговорах… К 23 января окончательная стратегия была в Вашингтоне выработана. На обращения югославского руководства в Совет Безопасности ООН об ответственности албанцев за эскалацию террористической деятельности, за нападения на полицейские патрули, похищения военных и мирных жителей никто внимания не обращал. События по «плану Рачак» развивались. М. Олбрайт заручилась поддержкой администрации президента и руководства Пентагона. Ее мемуары свидетельствуют: именно она была мотором всей натовской операции. И генштабом, и министром обороны, и солдатом. Теперь она принялась уговаривать европейских союзников. Но в Старом свете не сразу выказали готовность поддержать военные планы М. Олбрайт. Российский Генштаб, как вспоминал генерал-полковник Леонид Ивашов, располагал информацией о событиях в Рачаке: она поступала из нашего посольства в Белграде, от наших наблюдателей в Косовской верификационной миссии ОБСЕ, а потому наше военное руководство сомневалось в достоверности выводов Уокера. Но это тоже никого не волновало на Западе, «резня в Рачаке» обязана была стать поводом для наказания Сербии. Это подтверждают письма генерального секретаря НАТО от 28 и 30 января 1999 года на имя президента Югославии, названные «последним предупреждением». В Лондоне 29 января состоялась встреча Контактной группы (создана в 1994 году с целью координации урегулирования на Балканах, в нее входили министры иностранных дел США, России, Великобритании, Франции и Германии), на которой было объявлено, что мирные переговоры начнутся 6 февраля во французском Рамбуйе. Как вспоминала М. Олбрайт, «обеим сторонам мы собирались предложить на рассмотрение план, согласно которому Косово даруется автономия». Она внимательно следила за ходом переговоров. В Вашингтоне ей докладывали, что «сербская делегация относится к переговорам небрежно», албанцы же, требовавшие проведения референдума с заведомо предсказуемыми результатами по вопросу независимости Косово, ведут себя «упрямо, как ослы». Поэтому государственный секретарь решила срочно прилететь в Рамбуйе. Она «ставила перед собой две основных цели. Во-первых, хотела убедить сербов, что заключить соглашение в их же интересах. Во-вторых, добиться, чтобы албанцы приняли рамочное соглашение, предложенное Контактной группой». Прилетев в Париж, она провела встречу с президентом Сербии Миланом Милутиновичем, в ходе которой уговаривала его согласиться с присутствием натовских «миротворческих» сил в Косово. Милутинович ей ответил: «Я согласен с тем, что вы сказали, где-то на шестьдесят-семьдесят процентов. Мы должны всерьез думать о будущем и стараться разрешить косовский конфликт политическими средствами. Мы принимаем идею автономии и демократии, но нас определенно не устраивает ваше предложение разместить в крае внешние вооруженные силы. Это будет катастрофа. Вместо того чтобы строить такие планы, вам следует сотрудничать с нами в области расформирования ОАК». В конференции принимали участие и российские дипломаты. Именно они должны были уговорить сербов принять соглашение. Однако первый заместитель государственного секретаря США Строуб Тэлботт иначе оценил их деятельность. «По Рамбуйе бродил взвод российских дипломатов, призванных защищать принцип белградского владычества над Косовом, минимизировать роль НАТО в урегулировании и дискредитировать косоваров как бандитов, мало чем отличающихся от террористов, - напишет он позже. - Пока шли переговоры, я был в Москве, со своей стороны подкрепляя миссию Мадлен и держа связь с ее командой через американского посла в Македонии Криса Хилла - он был самым матерым и умелым специалистом по Балканам в дипломатической службе. Мы пытались заставить русских понять: опять выступая адвокатами сербов, они лишь поощряют непримиримость и тем самым увеличивают вероятность войны». В день окончания переговоров сербская делегация получила текст Временного соглашения и приложения к нему. После завершения переговоров в Рамбуйе обе стороны выступили с заявлениями. «Делегация Правительства Республики Сербия подчеркивает, что на переговорах в Рамбуйе был достигнут значительный прогресс в выработке политического решения о широкой автономии Косово и Метохии, уважающей суверенитет и территориальную целостность Республики Сербии и Союзной Республики Югославии, - сообщили сербы. - Мы особо подчеркиваем то же, о чем говорит и Контактная группа, а именно, что речь не идет ни о независимости Косово и Метохии, ни об образовании третьей республики. Поэтому все элементы автономии на момент утверждения соглашения должны быть известны и ясно определены. В дальнейшей работе этот вопрос необходимо адекватно поставить и последовательно решить. В этом смысле мы готовы участвовать в следующей встрече, посвященной данному вопросу». Албанцы подчеркнули: они подпишут договор, если через три года албанскому народу в Косово позволят провести референдум о независимости. Фактически Югославии выставили ультиматум: если она подпишет договор, на территорию края войдут войска НАТО. Если откажется – станет нести ответственность за провал переговоров, что предполагает «наказание» бомбовыми ударами. Комментируя столь унизительный ультиматум, даже американские газеты, а также многие авторитеты в области международного права риторически вопрошали: «Неужели кто-то мог ожидать, что сербы его примут?». Некоторые обращались и к совести читателей: «Вы-то сами подписали бы подобное соглашение?». Для М. Олбрайт было очень важно заставить С. Милошевича изменить свою позицию. Она была готова даже пойти на изменение формулировок, чтобы оккупация вооруженными силами НАТО всей страны выглядела «пристойнее». Она предлагала, например, сербской стороне такую характеристику натовских войск, как «антитеррористические силы», поскольку их роль, в частности, должна заключаться в содействии разоружению ОАК. Но американцам был важен еще один момент. Чтобы избежать обвинений в оккупации и иностранном вторжении, надо было добиться от Белграда приглашения сил НАТО разместиться на территории Югославии. Сделать этого не удалось. Привлекали даже российского министра иностранных дел в надежде, что ему удастся уговорить С. Милошевича. В середине марта Игорь Иванов съездил в Югославию и увидел там «только идиотов, готовых идти на войну»… Пока шли дискуссии по поводу текста соглашения, в штаб-квартире Североатлантического блока уже готовились атаковать. С. Тэлботт пишет, что в это время «НАТО принялась активно готовиться к кампании бомбардировок. В правительстве США доминировала точка зрения: надолго операция не затянется. Босния доказала, что Милошевич - трусливый забияка: если врезать ему посильнее, скорчится». НАТО начинает размещение десятитысячного контингента в Македонии на границе с Косово. Войска приводятся в состояние боевой готовности. Второй раунд переговоров начался в Париже 15 марта. По прибытии во французскую столицу югославская делегация провела пресс-конференцию. Американцы не ожидали, что югославская сторона приедет с тщательно проработанными текстами документов и без желания пускать натовцев в Косово. Как вспоминала М. Олбрайт, «представители сербского лидера появились в Париже с полностью исковерканным вариантом предложенного Контактной группой соглашения. Слово «мир» в начале договора они попросту зачеркнули. Возможно, Милошевич считал, что мы блефовали, или надеялся, что русские найдут способ помешать НАТО атаковать. Может быть, он доверял плохим советникам, которые убеждали его, как быстро он сумеет выиграть войну за Косово. Может быть, Милошевич считал, что его власть лишь укрепится, если он будет продолжать играть роль жертвы. В любом случае, свой выбор он сделал. Нам предстояло сделать наш». В сущности, ни делегация «косовско-метохийских албанцев», ни американские переговорщики не хотели переговоров. «Албанцы» присутствовали во Франции лишь физически, а от их имени выступали американцы, которые понимали переговоры как обязанность диктовать условия. Ну а Москва не восприняла всерьез одностороннее подписание албанцами всего текста соглашения, полагая, что он «никакой юридической силы не имеет». Но предполагал ли министр иностранных дел России, не пожелавший сорвать этот спектакль, что на «договоренности» будут ссылаться в последующих документах и требовать от Югославии его выполнения? Ведь дальше Запад стал использовать следующую формулировку для оправдания всех своих действий: «Установление в Косово мира на базе договоренностей, достигнутых в Рамбуйе». Совершенно очевидно, что переговорщикам не нужно было согласие Белграда, иначе бы рухнул весь план военной операции НАТО. Один из сотрудников Мадлен Олбрайт откровенно сказал: США «намеренно поставили планку так высоко, чтобы сербы не могли ее преодолеть». Фактически сорвав продолжение парижских переговоров, США и НАТО начали готовиться к наказанию Югославии как «виновника срыва переговоров». 21 марта Совет НАТО дал С. Милошевичу несколько часов на размышления и подписание соглашения, после чего пообещал нанести удар с воздуха. На следующий день генеральный секретарь альянса получил расширенные полномочия от Совета НАТО на принятие решения о проведении воздушных операций против Югославской армии. В ответ на послание сопредседателей встречи в Рамбуйе министров иностранных дел Франции и Великобритании президент Югославии написал: «Что касается ваших угроз в отношении военного вмешательства НАТО, то вашим народам должно быть за них стыдно, поскольку вы готовитесь применить силу против небольшого европейского государства только потому, что оно защищает свою территорию от сепаратизма, защищает своих граждан от терроризма и свое историческое достояние от головорезов... Вы не имеете права угрожать другим странам и гражданам других стран». С. Милошевич еще надеялся решить проблемы в Косово мирными средствами. Существовали ли для этого объективные возможности? Конечно, нет. Как писал президент Билл Клинтон 23 марта, «после того как Холбрук (Ричард Холбрук, специальный представитель США по Югославии – Е.Г.) покинул Белград, генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана при полной моей поддержке отдал приказ генералу Уэсу Кларку начать нанесение авиаударов». Давайте представим, что Белград согласился бы подписать в Рамбуйе все предложенные документы. Изменило бы это ход событий? Нет. «И даже если Милошевич ответил бы «да» на все, что содержится в соглашении Рамбуйе, мы все равно разбомбим его к чертовой матери», - сказал С. Тэлботт в марте 1999 года. С Россией, которая настойчиво выступала за мирное решение проблемы, казалось, тоже был найден вполне приемлемый вариант. Начало бомбовых ударов председатель правительства РФ должен был встретить в США, на переговорах совместной комиссии «Примаков-Гор». Там Евгения Примакова попытались бы убедить в правильности предпринятых военных действий. Однако Москва в лице главы кабинета министров в этот раз проявила характер. Переговоры в рамках совместной комиссии «Примаков-Гор» должны были начаться в США 23 марта. Подлетая к территории США, Е. Примаков поговорил с вице-президентом Альбертом Гором по телефону. Позже он так опишет разговор и свое последующее решение: «Вице-президент Гор на прямо поставленный мною вопрос не мог дать гарантий, что удар не будет осуществлен хотя бы во время моего пребывания в США. Вызвав командира корабля, я сказал: «Возвращаемся». «Как, не будем садиться в Вашингтоне, ведь до посадки три с половиной часа?». «Нет, в США садиться не будем. Если не хватит горючего до Москвы, совершим промежуточную посадку». Самолет развернулся над Атлантическим океаном...». Е. Примаков знал о готовящихся ударах, еще 22 марта помощник вице-президента США Л. Фет предупредил его, что «визит будет проходить на фоне очень быстро развивающейся ситуации вокруг Косово» - для того, чтобы возможные действия американской стороны не явились для него сюрпризом. Однако он принял решение лететь на переговоры, поскольку надеялся, что его визит сможет предотвратить агрессию, ведь в Вашингтоне была хорошо известна позиция России: она против применения силы в отношении Югославии. А. Гора очень волновала реакция общественного мнения на «разворот» Е. Примакова. Он предлагал Евгению Максимовичу сообщить журналистам, что визит просто откладывается на более поздний срок и выразить сожаление, что «мирное решение по Косово пока не найдено». Председатель правительства был решительным: «Сожалею, что своими действиями вы ставите под удар все, что наработано в отношениях между Россией и НАТО. Достичь этого было очень нелегко. Под удар ставится и ратификация Договора СНВ-2». Что касается заявления для прессы, то Евгений Максимович лукавить не хотел, и обещал сообщить истинную причину возвращения в Москву. Для многих «разворот» Е. Примакова был плохим знаком. Значит, будут бомбить, подумала тогда я. Россия была возбуждена из-за происходящего на Балканах, весь народ с сочувствием и желанием помочь смотрел на сербов… Военная операция НАТО против Югославии, получившая название «Союзная сила», началась 24 марта 1999 года. Это – официально. В действительности же она началась в селе Рачак. Елена Юрьевна Гуськова - доктор исторических наук, руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН. Материал подготовлен на основе ее книги «Агрессия НАТО против Югославии в 1999 году и процесс мирного урегулирования», которая выходит в свет.  ertata Тэги: балканы, бомбордировка, вов., военная, геополитика, геополитика., зла, зла., империя, история, история., косово, нато, новости., операция, политика, политика,, против, сербия, события., сша, сша-империя, югославии, югославия
Главная / Главные темы / Тэг «империя»
|
Категория «Религия»
Взлеты Топ 5
Падения Топ 5
Популярные за сутки
300ye 500ye all believable blog cake cardboard charm coat cosmetic currency disclaimer energy finance furniture hollywood house imperial important love lucky made money mood myfxbook new poetry potatoes publish rules salad sculpture seo size trance video vumbilding wardrobe weal zulutrade агрегаторы блог блоги богатство браузерные валюта видео вумбилдинг выводом гаджеты главная денег деньги звёзды игр. игры императорский картинка картон картошка клиентские косметика летящий любить любовь магия мебель мир настроение невероятный новость обзор онлайн партнерские партнерских пирожный программ программы публикация размер реальных рубрика рука сайт салат своми стих страница талисман тонкий удача фен феншуй финансы форекс цитата шкаф шуба шуй энергия юмор 2009 |
Загрузка...
| Copyright © 2007–2025 BlogRider.Ru | Главная | Новости | О проекте | Личный кабинет | Помощь | Контакты |
